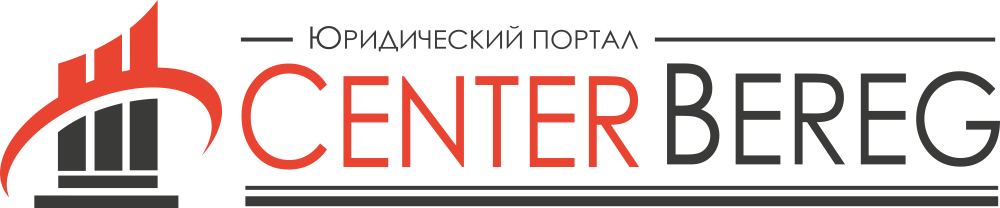Проблема сословной самоидентификации российского дворянства в контексте историко-правовых аспектов пушкинского наследия 1830-х гг
(Соколова Е. С.) («Российский юридический журнал», 2010, N 4)
ПРОБЛЕМА СОСЛОВНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ПУШКИНСКОГО НАСЛЕДИЯ 1830-Х ГГ. <*>
Е. С. СОКОЛОВА
——————————— <*> Sokolova Ye. S. (Yekaterinburg) The problem of class self-identification of the Russian nobility in the context of historical legal aspects of Pusnkin’s heritage of 1830’s.
Соколова Елена Станиславовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры истории государства и права Уральской государственной юридической академии (Екатеринбург).
Статья посвящена выявлению историко-правовых аспектов сословного самосознания дворянской интеллектуальной элиты первой трети XIX в. Автор — сторонник расширения методологического инструментария историко-юридической науки, призывает коллег не пренебрегать антропологическим контекстом, в рамках которого создается любой исторический источник правового содержания.
Ключевые слова: самосознание, пушкинское наследие, элита, онтология.
Historical legal aspects of class self-identification of the Russian intellectual elite of the 1st third of XIX с are disclosed in the article. The author suggests to broad methodological instruments of historical legal science through anthropological factor within which context any historical source with legal contents is made.
Key words: self-identification, Pusnkin’s heritage, elite, ontology.
Одним из наиболее примечательных интеллектуальных феноменов нашего времени является тяга человека к самоидентификации. Данная социокультурная тенденция постепенно завоевывает прочные позиции в ученом мире, внося своеобразный методологический раскол в среду гуманитариев, значительная часть которых неизбежно задумываются о степени допустимости использования обобщающих теоретических конструкций структурно-функционального типа в процессе интерпретации прошлого. Тенденция к выявлению антропологического контекста, в рамках которого создается исторический источник, привела многих современных исследователей к мысли об относительном характере любого научного дискурса. Прошлое стало восприниматься в качестве «чужой страны», где любое некорректное вмешательство исследователя в повседневное существование социума способно разрушить даже тот ускользающий образ человека другой эпохи, который берется сегодня за образец парадигмы исторического мышления многими поклонниками релятивизма. Моделирование априорных концептов системного характера в духе позитивизма для определения того или иного явления вызывает достаточно резкое неприятие у противников схематизации истории и увлеченности дефинициями. Научные сенсации, спровоцированные «интеллектуальным штурмом» постмодернизма, уже утратили эпатажный стиль, имеют довольно солидную историографическую традицию в рамках XX столетия. Глобализация исторической науки неминуемо отступает сегодня перед стремлением ученого вступить в диалог с прошлым, взглянув в глаза тех людей, для которых это прошлое было фактом обыденного существования. Сейчас характерной чертой исторического дискурса является боязнь исказить объект изучения за счет небрежной экстраполяции современных культурных кодов на принципиально иную реальность. Тезис о том, что история в значительной степени создается усилиями самих интеллектуалов, прочно сопровождает любые попытки части современных авторов выработать апостериорную модель исторической реконструкции, синтезирующую идеально-типологический анализ исследуемого объекта и процесс воссоздания его семиотического смысла в контексте непрерывно идущих в социуме процессов стратификации и эволюции ценностных ориентиров как в рамках общественных групп, так и на индивидуальном уровне. Споры о пределах верификации прошлого, осуществляемой на основе концептуального осмысления сущности исторического пространства большой временной длительности с использованием принципа институционализации идеальной социально-политической модели, представляют большой интерес для историко-правовой науки с ее традиционным акцентом на позитивистскую интерпретацию нормативных актов. Специфика истории права и государства, связанная с целью воссоздания механизма законодательного регулирования другого времени в сравнительно-историческом ключе, не позволяет с легкостью отказаться от применения ряда концептов, составляющих основу категориального аппарата большинства правоведческих дисциплин. Игнорирование данного факта неизбежно скажется на состоянии методологического инструментария историка-юриста. Задача анализа способов формального закрепления и реализации правовых институтов в различные периоды «утраченного прошлого» постоянно ставит исследователя перед необходимостью определения степени соответствия право-государственного уклада теоретическому идеалу. Однако постмодернистские конструкции неизбежно будут проникать в методологию историко-правового исследования в силу его социальной направленности, неизбежно приводящей к индивидуализации правосознания субъекта, непредвиденность которого может быть столь высока, что личность полностью абстрагирует себя от корпоративных интересов той социальной группы, формальным представителем которой она является. Девиантность мышления и поведенческой модели человека прошлого лишь обогащает исследовательскую палитру, внося в нее порой неуловимые оттенки, способные углубить наше представление о ментальности и диктуемых ею сдвигах как правового, так и социокультурного характера. Исследование процессов самоидентификации личности на уровне воссоздания представлений об аксиологии окружающего ее правового пространства дает возможность отчетливее представить ту интеллектуальную атмосферу, в которой осуществляется реализация законодательных инициатив верховной власти, нередко действующей в отрыве от повседневной практики, связанной с социальной деятельностью рядовых субъектов права ушедших эпох. Степень эффективности индивидуального подхода к историко-правовым аспектам гуманитарного дискурса хорошо прослеживается на примере исследования специфики социального самосознания российского дворянина XIX в., частные аспекты которого отражены в отдельных теоретических концептах, использованных А. С. Пушкиным для более глубокого осмысления правовой основы монархической государственности в России. 30-е гг. XIX в. были особым временем в творчестве Пушкина. По свидетельствам ряда современников, данный период характеризуется возникновением у поэта интереса к проблемам отечественной истории под влиянием «значительной перемены в образе мыслей» <1>. Общая разочарованность части образованного дворянства в либеральных ценностях западноевропейского типа наложила отпечаток и на мировоззрение Пушкина, развив в нем интеллектуальную потребность в осмыслении исторической судьбы России в контексте проблемы специфики взаимодействия народа и самодержавного государства. Став придворным историографом, поэт много внимания уделял обдумыванию методологических аспектов будущих научных исследований по российской истории XVIII столетия. ——————————— <1> Вересаев В. В. Пушкин в жизни. М., 1936. Т. 1. С. 443.
Интерес к проблемам правоведения являлся составной частью размышлений о специфике российской истории. По мнению Пушкина, наличие законодательных норм в обществе всегда следует расценивать как основной признак просвещенности народа. В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» поэт коснулся данной проблемы, говоря о влиянии монголо-татарского нашествия на русскую культуру. Пушкин высоко ценил труды П. Э. Лемонте за его умение внести «светильник философии в темные архивы истории». Поэт даже приобрел французское издание «Опыта о монархическом установлении Людовика XIV» для личной библиотеки. Тем не менее утверждение Лемонте о том, что влияние Орды «оставило ржавчину на русском языке», Пушкин отверг как необоснованное. По словам поэта, «чуждый язык распространяется… собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия… могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни торговли, ни законодательства?» <2>. ——————————— <2> Пушкин А. С. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949 — 1951. Т. 7. С. 27.
Спорность данного утверждения в оценке социокультурного потенциала Золотой Орды не снижает в целом научного значения историко-правовых взглядов Пушкина, позволяющих осуществить реконструкцию модели правосознания поэта. Его мироощущение складывалось не только под влиянием коллективных проявлений самоидентичности дворянской интеллектуальной элиты, но и благодаря чувству сословной принадлежности к потомственной дворянской фамилии, известной служебными заслугами и творческими дарованиями. В понимании поэта естественно-правовое содержание законодательства, дополненное надлежащим уровнем судопроизводства, является наиболее действенным средством для развития в государстве нравственности и просвещения. В соответствии с заявленным теоретическим концептом Пушкин получил в 1832 г. разрешение от Николая I на доступ к архивным материалам Министерства иностранных дел, где хранились секретные документы, связанные с государственной деятельностью Петра Великого. В докладе императору Николаю I от 12 января 1832 г. граф К. В. Нессельроде назвал среди бумаг, с которыми чиновники предполагали познакомить Пушкина, следственные материалы Петровской эпохи, в том числе «о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче, также дела бывшей Тайной канцелярии». Секретные архивы Министерства иностранных дел находились в то время в подчинении Д. Н. Блудова, давнего знакомого Пушкина по «Арзамасу». Ему было передано распоряжение Николая I от 15 января 1832 г., согласно которому архивным служащим разрешалось выдавать все запрашиваемые поэтом дела с тем условием, чтобы он не брал их домой <3>. ——————————— <3> Документы Государственного и СПб. Главного архивов Министерства иностранных дел, относящиеся к службе Пушкина. СПб., 1900. С. 17 — 18.
Собирая архивные материалы правоведческого характера, Пушкин в то же время тщательно изучал устные предания о Петровской эпохе, исходя при этом из собственного понимания целей научного исследования. В 1835 г., отвечая на критическую статью военного историка В. Б. Броневского по поводу «Истории Пугачевского бунта», поэт писал, что читатель «вправе требовать от историка если не таланта, то добросовестности в трудах и осмотрительности в показаниях». Отвергая обвинение в поэтических вымыслах, выдвинутое его оппонентом, Пушкин затронул вопрос о роли предания в деле воссоздания исторической истины. Признавая, что свидетельства, сохраненные в памяти народа, создают фон, необходимый для проникновения в дух времени, поэт все же настаивал на их строгой проверке в процессе исследовательской работы, ибо нередко «показания, на них основанные, сбивчивы, темны, а иногда и совершенно ложны» <4>. ——————————— <4> Пушкин А. С. Об «Истории Пугачевского бунта» (Разбор статьи, напечатанной в «Сыне Отечества» в январе 1835 года) // Полн. собр. соч. Т. 8. С. 388, 390.
В дневнике надворного советника Д. Е. Келлера, с которым Пушкина объединял общий интерес к эпохе Петра I, есть запись о разговоре с поэтом, который состоялся за несколько недель до роковой дуэли. По словам Келлера, поэт, пригласив его к себе, «много говорил… об истории Петра Великого». Одно из главных затруднений в работе над материалами Петровской эпохи он видел в том, что «многие писатели, не доброжелательствуя ему (Петру. — Е. С.), представляют разные события в искаженном виде, другие — с пристрастием осыпали похвалами все его действия». Тем не менее Пушкин признавался, что обилие противоречивых исторических материалов не смущает его, так как без этого невозможно «составить… идею обо всем труде». Он сообщил Келлеру, что собирается написать «Историю Петра» в год или в течение полугода и затем исправлять ее по документам <5>. ——————————— <5> Пушкин А. С. Сочинения / Под ред. П. Ефремова. СПб., 1905. Т. 8. С. 586 — 587.
Наряду с изучением архивных документов Петровской эпохи Пушкин использовал и сведения о законодательных актах первой четверти XVIII в., систематизированные бывшим депутатом елизаветинской законодательной комиссии 1754 — 1761 гг. московским купцом И. И. Голиковым в многотомный свод «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам». В 1761 г., участвуя в работе по составлению проекта нового Уложения, Голиков познакомился с видными сподвижниками царя С. И. Мордвиновым, А. И. Нагаевым, И. Л. Талызиным, которые доставили ему «много документов, относившихся к Петровской эпохе, как-то: указов, писем и т. д.». Сведения и записки о государственной деятельности Петра I Голиков получал и ранее через И. И. Неплюева, П. И. Рычкова и других современников первого российского императора, которые сочувственно относились к историческим занятиям горячего почитателя «славных петровских дел», необычным по тем временам для человека «неученого» <6>. ——————————— <6> Шмурло Е. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912. С. 92 — 93; Голиков И. И. Деяния Петра Великого. 2-е изд. М., 1837. Т. 1. Паг. I. С. V.
Собранные Голиковым свидетельства очевидцев и участников Петровских реформ получили высокую оценку Пушкина. «Особы, доставившие важнейшие сведения Голикову, — отмечал поэт, — С. И. Мордвинов, И. Л. Талызин, комиссар Крекшин и московские купцы Сериков, Евреинов, Полуярославцев и Ситников и олонецкий купец Барсуков». Поэта привлекало и критическое отношение Голикова к тем материалам, которые находились в его распоряжении. Работая над публикацией, предшественник Пушкина старался отобрать лишь те свидетельства и документы, за которыми можно было признать историческую достоверность. Отбирая сведения для составления свода законодательных материалов, Голиков придерживался следующих принципов: «1) ежели повествуемое… взято из подлинных записок или частных журналов тех времен; 2) ежели особы, предавшие… словесно, были или очевидцами повествуемого, или удостоверены о истине того от современников, заслуживающих уважения». Те же принципы источниковедения служили руководством для Пушкина, собиравшего исторические рассказы петровского времени, при выяснении степени достоверности анекдотов, опубликованных Голиковым, на основе поправок и дополнений к «Деяниям», сделанных поэтом со слов князя А. Н. Голицина <7>. ——————————— <7> Голиков И. И. Указ. соч. Т. 1. Паг. I. С. II — V; Пушкин А. С. История Петра. Подготовительные тексты // Полн. собр. соч. Т. 9. С. 11.
В подготовительных материалах к «Истории Петра» Пушкин формально придерживался схемы расположения документов, заимствованной из публикации Голикова. Фиксируя по годам основные события петровского царствования, он завершал каждый раздел обзором правительственных указов в сфере административного управления и государственного хозяйства. Интерес поэта к законотворческой деятельности Петра Великого был тесно связан с его убеждением в благотворном влиянии справедливого закона на состояние общества и государства. Еще в молодые годы Пушкин записал исторический анекдот, в котором содержалось высказывание Екатерины II о том, что все ее инициативы в сфере внутреннего устройства государства «были уже обдуманы Петром» <8>. Собирая памятники законотворчества Петровской эпохи, Пушкин не скрывал восхищения размахом государственных преобразований царя-реформатора. Так, делая выписки из свода Голикова о разнообразии именных Указов Петра в 1717 г., подписанных в момент прибытия в Петербург известия о бегстве царевича Алексея, Пушкин дает следующий комментарий: «Голиков по обыкновению своему восклицает: удивительно! Что за попечение, что за присутствие духа! Голиков прав» <9>. ——————————— <8> Голиков И. И. Указ. соч. Т. 1. Паг. I. С. IV — V; Пушкин А. С. Исторические анекдоты // Полн. собр. соч. Т. 8. С. 90 — 91, 99. <9> Пушкин А. С. История Петра. С. 375.
Перечитывая «Деяния Петра Великого» с пером в руке, Пушкин сверял данные Голикова с текстом Полного собрания законов. Выписав из первого тома «Деяний» сведения об Указах 1698 г., поэт, ссылаясь на приведенные Голиковым тексты, сообщил о количестве нормативных актов: «3 устава, указов 34» <10>. В тексте «Истории Петра» упомянуты лишь Уставы об управлении питейными заведениями и о регулировании правил работы Московской таможни. Факт существования третьего устава, текст которого отсутствует в своде Голикова, поэт, вероятно, собирался проверить по Полному собранию законов. ——————————— <10> Голиков И. И. Указ. соч. Т. 1. С. 141; Пушкин А. С. История Петра. С. 68 — 69. Об истории приобретения А. С. Пушкиным Полного собрания законов Российской империи см.: Лернер Н. О. Из неизданных материалов для биографии Пушкина. Царский подарок // Пушкин и его современники. Пг., 1915. Вып. 15. С. 34 — 38. Более подробно о составе юридического отдела пушкинской библиотеки см.: Соколова Е. С. «Дань веку просвещения…»: Об историко-правовых аспектах изучения библиотеки А. С. Пушкина // Россия и мир: панорама исторического развития. Екатеринбург, 2008. С. 270 — 278.
Из хронологического перечня законодательных материалов, составленного Голиковым, Пушкин отобрал все указы, закрепляющие нормы поместного права, принципы судоустройства и судопроизводства, систему налогообложения и пределы компетенции административного аппарата. Большое внимание поэт уделил вопросам торгового законодательства, последовательно критикуя стеснительный и жесткий характер петровских инициатив по отношению к купечеству. Те указы, которые вызывали особый интерес Пушкина, он, конспектируя свод, помечал знаком «NB». Подготавливая историко-правовой комментарий к ряду нормативных актов, поэт проставлял на полях знак вопроса, скобки и прочие пометки. Таким образом, постепенно определялся круг актов, содержание которых необходимо было уточнить либо в Полном собрании законов, либо в других публикациях памятников права Петровской эпохи, часть которых имелась в библиотеке поэта. Так, фиксируя указы Петра I, направленные на формализацию государственной службы, Пушкин сделал запись об утверждении 24 февраля 1722 г. Табели о рангах и добавил: «(оную изучить)». Аналогичный комментарий содержится в черновиках поэта и по поводу реформы Сената, суть которой состояла в создании института прокурорского надзора, чему Пушкин придавал огромное значение с точки зрения законности. «27 (или 29) января, — отмечал поэт, — Петр создал должность генерал-прокурора». Публикуя материалы петровского законодательства, Голиков предпочитал воздерживаться от аналитических и эмоциональных оценок деятельности своего персонажа, исключая те случаи, когда речь шла о намеренном создании ореола величия вокруг государственных начинаний Петра I. Автор «Деяний» высказывал собственное мнение только тогда, когда содержание указа давало возможность подчеркнуть полезность и мудрость начинаний царя-преобразователя. «Входить толикою точностию во все части государственного благоустройства… и толикое число издать законов есть дело весьма трудное», — замечал Голиков, сопровождая процитированным рассуждением обзор петровских Указов за 1712 г. Документы, которые нельзя однозначно оценить, Голиков отдавал на суд историков будущих поколений. Воссоздавая Петровскую эпоху, Пушкин неоднократно пользовался правом историка на интерпретацию данных источника, анализируя степень соответствия правительственных указов принципу законности, быстро завоевавшему признание российского законодателя первой четверти XVIII в. Излагая обстоятельства борьбы за власть между Милославскими и Нарышкиными, поэт не подвергал сомнению легитимность самодержавной формы правления. История падения правительства царевны Софьи носила в его глазах характер законной передачи Петру Алексеевичу царского титула, который по обычаю принадлежал ему как продолжателю династии Романовых после смерти царя Федора. Опираясь на свод Голикова, Пушкин подробно описывал государственные торжества в честь рождения царевича Петра. «Царь, — отмечал поэт, — в знак своей радости даровал прощение осужденным на смерть, возвратил из ссылки преступников, роздал богатую милостыню… искупил невольников, заключенных за долги» <11>. Перечисляя указы, утвержденные счастливым отцом по поводу удачного разрешения Натальи Кирилловны Нарышкиной от бремени, Пушкин косвенно подводил читателя к выводу о том, что Алексей Михайлович обдуманно старался придать этому событию оттенок публичности, подчеркивая всеми возможными способами его официальное значение для судьбы трона. ——————————— <11> Голиков И. И. Указ. соч. Т. 5. С. 127; Пушкин А. С. История Петра. С. 19.
В отличие от Голикова Пушкин не испытывал сочувствия к царевне Софье, видя основную причину ее политического краха в открытом намерении захватить власть. Автор «Деяний» тоже отмечал пристрастие сестры Петра I к насильственным политическим акциям, но при этом подчеркивал ее незаурядный ум и природные способности к административной деятельности. Повествуя о заключении царевны в Новодевичий монастырь, Голиков прибавлял: «Сам царь Петр Великий имел к дарованиям ее уважение» <12>. Пушкин был более сдержан в оценке итогов правления Софьи. Царевна-бунтарка являлась для него, прежде всего, главной виновницей «великого смятения» 1682 г. в Московском государстве. В связи с этим поэт фиксировал внимание читателя на политических просчетах Софьи Алексеевны, оставляя в стороне положительные стороны ее государственной деятельности. С историко-правовой точки зрения Пушкин осуждал сестру Петра за самовольное присвоение самодержавного титула, связанное с нарушением старозаветных обычаев передачи власти по мужской линии. Ей же он отвел решающую, хотя и негласную, роль в подготовке стрелецкого мятежа 1689 г., который царевна старалась разжечь через Федора Шакловитого втайне от своего ближайшего окружения. По мнению Пушкина, именно Софья запретила именем царя Иоанна Алексеевича исполнять указы Петра, направленные в стрелецкие полки «для подлинного розыску» через выборных стрельцов. Узнав о намерении своего брата-соперника заключить ее в монастырь, Софья даже «помышляла о братоубийстве» <13>. ——————————— <12> Голиков И. И. Указ. соч. Т. 1. С. 65 — 66. <13> Пушкин А. С. История Петра. С. 38 — 39.
Обдумывая судьбу царевны после ее низложения, Пушкин подчеркивал, что бывшая правительница единственная «оставалась ненаказанной», несмотря на то что была главной виновницей политического заговора против Нарышкиных. Поэт считал, что Петр сознательно смягчил участь нелюбимой сестры, опасаясь гражданской смуты внутри ослабленного государства. Софья лишь получила от молодого царя лаконичный, но суровый приказ «добровольно удалиться в монастырь» <14>. Несомненно, Пушкину был хорошо известен правовой аспект решения Петра I. Согласно нормам Соборного уложения 1649 г. «злое умышление… на Государьское здоровье» наряду с попыткой вооруженного захвата царского престола каралось «по сыску» «смертию» <15>. ——————————— <14> Там же. С. 45. <15> Соборное уложение 1649 г. Текст. Комментарии. Л., 1987. Гл. I. Ст. I. С. 21 — 22.
Поэт имел возможность навести соответствующие справки, не выходя за пределы домашней библиотеки. После смерти Пушкина в его книжном собрании был найден экземпляр Уложения, напечатанный типографией Сената в 1820 г., с экслибрисом библиотеки крупнейшего издателя и книготорговца первой трети XIX в. А. Ф. Смирдина <16>. Текст Уложения формально являлся источником действовавшего права до кодификации 1830-х гг. и вошел в первый том Полного собрания законов Российской империи. Возможно, поэт намеревался использовать фрагменты из старомосковского права в процессе работы над введением к «Истории Петра», где планировал дать обзор состояния российского законодательства в середине XVII в., когда страна, «долго терзаемая междоусобиями… отдыхала под управлением Романовых» <17>. ——————————— <16> Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. М., 1988. С. 107. <17> Пушкин А. С. История Петра. С. 7.
Пушкин весьма скупыми штрихами описывал итоги политической авантюры Софьи, полностью отвергая компромиссную оценку, предложенную Голиковым. «Царевна, — сообщал поэт, — самодержавно правительствовала семь лет с половиною… Титул… давался ей во всех грамотах, указах и письменных делах». В отличие от Голикова, который счел возможным выделить из 150 собранных им указов те, которые в наибольшей степени отражали попечение Софьи «о жизни подданных», Пушкин отказался даже от перечня законодательных инициатив царевны. Зато внимание поэта привлек первый самостоятельный Указ Петра Алексеевича, санкционированный им 7 сентября 1689 г. совместно с царем Иоанном V. Текст нормативного акта содержал строгий запрет, «чтобы ни в каких делах имени бывшей правительницы не упоминать». Обычай приобрел силу закона: Петр формально провозгласил себя и своего брата прямыми преемниками царя Федора Алексеевича по мужской линии. На этом Пушкин предпочел поставить точку в недолгой истории величия и падения царевны Софьи: «Отселе царствование Петра единственное и самодержавное» <18>. ——————————— <18> Там же. С. 46; Голиков И. И. Указ. соч. Т. 1. С. 66.
Восхищение принципом законности, введенным в юридическую практику России под влиянием поверхностного знакомства Петра с идеями раннего западноевропейского Просвещения, не помешало Пушкину критически подойти к проблеме осмысления излишней строгости ряда петровских указов, направленных на стеснительную регламентацию частного быта и социальной практики как служилого дворянства, так и низших категорий населения. По мнению поэта, модель имперского государства с ее приоритетом «общего блага» была основана государем на системе «тиранства нестерпимого» по отношению к интересам всех сословий. Указывая на противоречивый характер петровских преобразований, Пушкин отметил, что движущей силой законодательной политики Петра I был внутренний конфликт между европеизированным идеалом естественного права и «азиатским невежеством» народа. По словам поэта, данная особенность довольно ярко прослеживается при сопоставлении содержания фундаментальных нормативных актов, положенных в основу реформ правительственно-административной системы, с указами подзаконного типа, имеющими временное значение. «Первые были для вечности или по крайней мере для будущего, — писал Пушкин, — вторые вырывались у нетерпеливого и самовластного помещика» <19>. Приведенный вывод косвенно перекликается с более ранней оценкой петровского периода, сформулированной Пушкиным в «Исторических заметках» 1822 г., где поэт писал о полном равенстве лиц всех состояний перед произволом самодержца, который не опасался игры ценностями свободы и просвещения, надеясь справиться с наиболее крайними их проявлениями, опираясь на свойственное ему презрение к человечеству <20>. ——————————— <19> Пушкин А. С. История Петра. С. 415, 459. <20> Пушкин А. С. Исторические заметки. Заметки по русской истории XVIII века // Полн. собр. соч. Т. 7. С. 122.
Сюжеты, использованные при работе над данной статьей, не исчерпывают многообразия историко-правовых проблем, поставленных в пушкинском наследии. Взгляды поэта на сущность принципа законности и возможные способы ее реализации типологически примыкают к той модели сословного самосознания, которое Н. М. Карамзин именовал «благородной дворянской гордостью», подчеркивая наличие особых нравственных качеств, присущих лучшим представителям российской потомственной знати <21>. Формирование архетипа дворянского «благородства», который на рубеже XVIII — XIX вв. стал восприниматься под влиянием ряда социально-политических факторов как синоним внутреннего аристократизма, было связано с процессом усвоения правовых идей Просвещения наиболее образованными представителями потомственных знатных фамилий. Все они не только хорошо знали западноевропейскую науку и культуру, но и стремились к переносу ее лучших образцов на российскую почву. Многие дворяне-аристократы, в том числе сам Пушкин, не отвергали институт самодержавия, искренне веря в безграничный реформаторский потенциал просвещенной монархии, но корректируя ее модель в духе правовой законности и сословной толерантности. Служение законной власти расценивалось в качестве проявления как личной, так и корпоративной чести дворянина. Историко-правовые размышления Пушкина о степени влияния позитивного закона на социокультурный облик общества и государства представляют собой частный пример стремления выходца из потомственной дворянской фамилии интегрироваться в политическую систему Российской империи, используя свой богатый духовный потенциал, творческие возможности и широкую профессиональную эрудицию правоведческого характера. ——————————— <21> Шмидт С. О. Общественное самосознание noblesse russe в XVI — первой трети XIX века // Общественное самосознание российского благородного сословия XVII — первой трети XIX века. М., 2002. С. 113.
Вопрос о месте и роли политико-правовой культуры российского дворянства в процессе реформирования нравственных и институциональных аспектов сословной корпоративности еще ждет осмысления. Сопоставление разнообразных моделей правосознания частных лиц, бытовавших в среде как потомственного, так и чиновного дворянства, с официальными законодательными инициативами сословного характера может привести к интересным результатам, использование которых позволит в перспективе выявить степень возможного, но так и не реализованного консенсуса между монархией, дворянством и многочисленными непривилегированными сословиями Российской империи.
——————————————————————