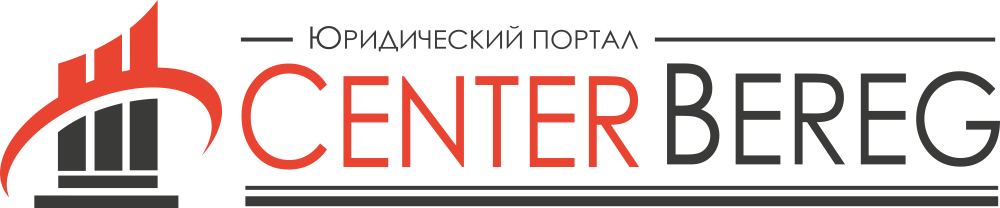Судебный прецедент как ненормативный способ легитимации судебных решений
(Головко Л. В.) («Вестник гражданского права», 2010, N 6)
СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК НЕНОРМАТИВНЫЙ СПОСОБ ЛЕГИТИМАЦИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Л. В. ГОЛОВКО
Головко Л. В., доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Главной причиной, по которой редакция приняла решение об опубликовании данной статьи, заключается в увеличении в последнее время споров о необходимости легализации прецедента как источника права. Однако, как показано в статье, мало кто из юристов понимает истинное значение термина «прецедент» и то, как он «появляется». На основе исследования теории прецедента в англосаксонской и континентальной (преимущественно на примере Франции) правовых системах автор делает печальный вывод, что за «теоретическими изысканиями» проблемы прецедента скрывается меркантильное желание получить право издавать циркуляры и ничего более.
Ключевые слова: судебный прецедент, легитимация судебного решения, англосаксонское право, континентальное право.
The main reason for the editorial board for publishing this article is the recent disputes about the legalization of the precedent as a source of law. However, as indicated in the article, only a few lawyers understand the true meaning of the term «precedent» and how it «rises». Based on a study of the precedent theory in Anglo-Saxon and continental (mainly on the example of France) legal systems, the author makes the sad conclusion that behind «theoretical studies» of the pointed problem lies a mercantile desire to obtain the right to issue circulars and nothing more.
Key words: judicial precedent, legitimation of judicial decisions, common law, civil law.
Что нам известно о судебном прецеденте? Мы знаем, что он является источником права в странах англосаксонской системы права, все более и более становящейся «модной» сегодня. Знаем, что суть прецедента (stare decisis) сводится к тому, что решение одного суда (чаще всего вышестоящего) становится обязательным для рассматривающего аналогичное дело другого суда (чаще всего нижестоящего), превращаясь тем самым в правовую норму. Наиболее осведомленные в тонкостях сравнительного правоведения отечественные юристы знают также, что обязательным для остальных судов (т. е. нормативным) является не все судебное решение, а только тот его элемент, который по традиции именуется ratio decidendi (стоять на решенном), тогда как остальные положения решения считаются obiter dictum (попутно сказанным) и никакой нормативно-обязательной силы не имеют. Вот, пожалуй, и весь «джентльменский набор» знаний о прецеденте образованного российского юриста, как выясняется, вполне достаточный для того, чтобы без устали предаваться поиску аналогичных явлений в собственной национальной правовой системе, объявляя «прецедентами» то постановления Пленумов высших судов, то решения Конституционного Суда, то что-нибудь еще. В последнее время, помимо поиска «аналогий», наметилась новая тенденция: хорошим тоном стало считаться продвижение идеи о необходимости официального признания наличия прецедентного права в России и его дальнейшего развития. Дескать, у нас и так существует масса проявлений «прецедентного права». Осталось только объявить об этом urbi et orbi каким-нибудь официальным «указом», одновременно слегка облагородив советские постановления «пленумов и президиумов» красивыми западными терминами вроде тех же stare decisis или ratio decidendi. При этом выгоды от «прецедентной прививки» для нашей правовой системы очевидны. По мнению адептов прецедента, правовая система станет не только в целом «цивилизованнее», но и наполнится столь желанным единообразием судебной практики, искомой правовой определенностью и т. д. Но так ли все просто? Прежде чем искать аналогии или тем более пропагандировать рецепцию, не лишним выглядит некоторое расширение «джентльменского набора» знаний о прецеденте — в противном случае не совсем понятно, об аналогиях чему и о рецепции чего идет речь. Каков реальный механизм действия прецедента в странах, создавших соответствующую концепцию (Англия, США и др.)? Каково функциональное значение судебного прецедента? Какова его реальная правовая природа?
Юридическая природа судебного прецедента в англосаксонском праве
Мы все прекрасно понимаем механизм принятия закона. Не вдаваясь в детали, определенная группа людей шлифует формулировку некоего абстрактного правила поведения, предлагает свои варианты, выслушивает замечания и т. д., после чего соответствующая версия текста приобретает необходимую форму и становится «проектом закона». В этом качестве текст вносится в парламент (о чем нам объявляют официально, в том числе в СМИ), где проходит массу процедур, прежде чем в результате голосования становится «законом». При этом непременным атрибутом закона являются положения о его вступлении в силу, сроках такого вступления и т. д. Закон неизбежно публикуется в строго определенных официальных источниках, после чего в день и час X вступает в силу… Теперь попробуем спросить любого образованного российского юриста, знающего о ratio decidendi и obiter dictum: каков механизм превращения решения английского или американского суда в норму права? Как такая норма (stare decisis) выглядит технически? В какой форме и в какой момент о ее наличии узнают судьи, адвокаты, простые тяжущиеся? В какой день и час она вступает в силу, обеспечивая долгожданную «правовую определенность» и не менее долгожданное «единообразие судебной практики»? Как отличить ratio decidendi от obiter dictum? Это далеко не исчерпывающий перечень вопросов, на которые, наверное, не требуется отвечать при сдаче экзамена по сравнительному правоведению (слишком они конкретны), но которые неизбежно возникают, если мы всерьез задумываемся о рецепции, имплементации и т. д. Нельзя же, в конце концов, пытаться копировать какой-либо механизм, лишь бегло осмотрев его упаковку, — необходимо понять, как работает каждая деталь, каждый винтик данного механизма. Может быть, нам поможет ознакомление с конкретными английскими или американскими судебными решениями, повсеместно признанными в этих странах в качестве прецедентных? Увы, но оно озадачивает еще больше. Возьмем почти наугад и исключительно в виде примера легендарное решение Палаты лордов по делу Caparo Industries v. Dickman (1990), считающееся одним из ключевых источников современного английского деликтного права, в котором, как известно, выработаны три фактора или критерия (three-fold-test) наступления гражданско-правовой деликтной ответственности. Перед нами предстает огромный по объему текст, одно прочтение коего занимает немалое время. Здесь, разумеется, нет никаких рубрик, четко показывающих, где в тексте решения следует искать ratio decidendi, а где — obiter dictum. Нет здесь и формализованной в интересующем нас аспекте резолютивной части, в которой было бы указано, что «отныне судам необходимо иметь в виду наличие трех обязательных критериев…». Так что же в этом решении есть? Есть нечто, напоминающее знакомые нам стенограммы «заседаний ученых советов» с фамилиями выступавших (в данном случае — судей) <1>, неимоверным количеством ссылок на какие-то предыдущие решения, разнообразными цитатами и т. д. Есть итоговое решение по конкретному делу (в иске Caparo Industries отказать). Есть изречение Высокого суда Австралии (он-то здесь при чем?) о том, что право должно в большей степени развивать новые категории небрежности по аналогии с существующими категориями, нежели чрезмерно расширительно толковать базовые конструкции. Мысль, конечно, превосходная, но где прецедент? Как все английские юристы узнали из этого решения о «трех критериях» (three-fold-test), ведь соответствующее положение не выделено ни жирным шрифтом, ни курсивом, ни как-то еще? Если же «пробежаться» по информационным базам данных, «вбив» в Google название заинтересовавшего нас решения, то изумление еще больше возрастает. Оказывается, что содержание решения везде излагается по-разному и в разном объеме <2>, т. е. каждый интерпретатор выделил из его текста нечто свое, показавшееся ему наиболее важным, совершенно не заметив остальное. Но где же правовая определенность? Где хваленое единообразие судебной практики? ——————————— <1> Как отмечают французские компаративисты Р. Давид и К. Блан-Жуван, прецедентом выступает «не само судебное решение (которое stricto sensu является всего лишь аналогом нашей резолютивной части), поскольку оно по определению имеет силу только для конкретного дела, но исключительно мнение судьи (или его выступление [speech], когда речь идет о Палате лордов), т. е. на самом деле изложение мотивов… нередко весьма и весьма объемное» (David R., Blanc-Jouvan X. Le droit anglais. 10 ed. Paris: PUF, 2003. P. 62 — 63). Именно в этих мнениях-выступлениях и следует искать ratio decidendi, obiter dictum и т. д. <2> См., например: http:// lawiki. org/ index. php/ Caparo_ Industries_ v_ Dickman_(1990).
Итак, ознакомление с одним из знаковых английских судебных решений наших сомнений не развеяло <3>. В их тексте нет ничего напоминающего континентальную технику формулирования абстрактных правовых норм, сопровождаемую непременным ответом на вопросы о моменте вступления в силу данных норм, источнике их опубликования и т. д. <4>. Так каков же механизм действия прецедента? Представим себе английского судью, который сталкивается с десятками или сотнями тысяч принятых в рамках common law за почти десяток веков решений <5>, предстающих в виде многостраничных текстов без выделения автономной резолютивной части, где бы формулировался собственно прецедент. Представим себе американского судью, спешащего на службу в свой окружной федеральный суд где-нибудь в Калифорнии. Что он должен делать, зная, что на востоке страны в это время уже полдень и многие из расположенных там федеральных апелляционных судов могли за прошедшие часы вынести целый ряд немалых по объему судебных решений, где опять-таки нет состоящей из пары фраз абстрактной нормы в виде любезно сформулированного ratio decidendi, а есть все эти бесконечные ссылки, цитаты, мнения и т. д.? Должен ли он сразу прильнуть к вожделенному Интернету и, вооружившись курсором, начать изучение «свежих» решений, усердно отделяя в них ratio decidendi от obiter dictum и моля Бога лишь об одном — чтобы не поступило новое решение из апелляционных округов центра страны, где время также приближается к полудню? Когда же несчастный судья отправляет свои непосредственные обязанности, если он постоянно «бомбардируется» новыми судебными решениями разнообразных вышестоящих судов, не говоря уже о необходимости перманентного освоения тысячелетнего «балласта» common law, от которого избавиться нельзя никак? В такой ситуации работа судьи в США выглядит какой-то каторгой, а не респектабельной вершиной карьеры юриста, как почему-то и не без оснований (исходя из самоощущения самих судей) считается в общественном мнении, настаивающем на особом «престиже американских судей» <6>. Добавим к этому необходимость следить не только за собственным, но и за иностранным правом, в чем мы успели убедиться на примере решения английской Палаты лордов по делу Caparo Industries v. Dickman с его ссылками на позицию Высокого суда Австралии <7>. Это уже за пределами любых человеческих возможностей. ——————————— <3> Не стоит полагать, что ознакомление, скажем, с американскими судебными решениями внесет больше ясности в интересующую нас проблему. Зададим, например, не слишком сложный процессуальный вопрос: можно ли добиться в США пересмотра оправдательного приговора, вынесенного на основании вердикта подкупленной коллегии присяжных? Ответ, основанный на прецедентном праве, отличается чем угодно, кроме определенности: «В англо-американской судебной практике существует мало прецедентов, позволяющих подавать апелляцию на оправдательный приговор, добытый обманным путем… В то же время недавно суд Иллинойса отменил решение об оправдании на основании того, что при его вынесении имел место факт коррупции, а вышестоящий суд оставил решение об отмене в силе» (Thaman S. C. The Nullification of the Russian Jury: Lessons for Jury-Inspired Reform in Eurasia and Beyond // Cornell International Law Journal. 2007. Vol. 40. Spring. N 2. P. 428). Что значит «мало прецедентов»? Сколько их должно быть? Где здесь, в конце концов, правовая норма? Какой нормой руководствовался суд Иллинойса? На все эти вопросы мы вряд ли найдем однозначный ответ в духе «правовой определенности». <4> Мы, конечно, не забываем о легендарных английских Law Reports (официальных или неофициальных сборниках судебных решений). Но на самом деле в них публикуется всего лишь примерно 75% решений Палаты лордов (вынесенных еще в то время, когда она являлась высшим судебным органом Англии), 25% решений Апелляционного суда и 10% решений Высокого суда правосудия (см.: David R., Blanc-Jouvan X. Op. cit. P. 64). Здесь только возникают дополнительные вопросы. По какому принципу происходит отбор? Можно ли представить себе ситуацию, когда в Собрании законодательства РФ публиковалось бы 10, 25 или даже «целых» 75% принятых в России законов? Интересно знать, как отнеслось бы к этому общественное мнение? <5> Считается, что принцип прецедента сформировался по меньшей мере в XII в. или даже раньше (см.: Бернам У. Правовая система США. М., 2006. С. 110). При этом common law признается «действующим в неизменном виде с самого начала (если только в него не вносились изменения законом)» (David R., Blanc-Jouvan X. Op. cit. P. 61), т. е. все прецеденты с тех пор формально остаются в силе. <6> Zoller E. Le droit des Etats-Unis. Paris: PUF, 2001. P. 81. <7> Это, разумеется, далеко не единичный случай. Как отмечает И. Ю. Богдановская, более половины прецедентного права, скажем, Новой Зеландии заимствуется из-за рубежа (50% из Великобритании, 10% из Австралии, некоторая часть из Канады). Австралийские судебные решения в одной трети случаев основываются на английских прецедентах. В самой Великобритании цифры не столь впечатляющи, но не менее показательны теоретически: 1% британских прецедентов имеет иностранное происхождение (Богдановская И. Ю. Прецедентное право. М., 1993. С. 38).
Что-то здесь не так. Где-то в нашем традиционном представлении о судебном прецеденте заложена ошибка, в результате которой все «школьные» знания рассыпаются, словно карточный домик, едва только мы пытаемся смоделировать на их основе реальную действительность. На самом деле ключевая проблема заключается в том, что на судебный прецедент нельзя смотреть через призму континентального правового менталитета, доведенного до крайности в новейшей отечественной юридической традиции. Когда российскому юристу говорят, что прецедент является источником права (что верно, но только отчасти), то он слишком буквально воспринимает этот тезис и начинает искать в судебном решении «правовую норму» со всеми ее атрибутами, включая абстрактный характер, жесткость предписания, наличие санкции за неисполнение (в виде, например, обязательной отмены соответствующего «девиантного решения»), точную дату вступления в силу и т. д. Здесь-то и возникает тот абсурд, с которым мы столкнулись выше. Поэтому расставим точки над «i»: судебный прецедент вовсе не имеет в англосаксонском праве нормативного характера, не является источником права (в континентальном понимании) и ничуть не связывает суд при принятии решения, т. е. общепринятое в российских юридических кругах понимание судебного прецедента на деле является обыкновенным юридическим мифом. Подобное понимание чем-то напоминает хорошо известный своей «глубиной» анализ российской культуры через призму идеи о «водке, медведях и балалайке». Другой вопрос: когда мы иронизируем над такого рода представлениями о собственной стране, наша ирония отнюдь не означает, что в России не пьют водку, в ее лесах совсем не осталось медведей и никто и никогда не играет здесь на музыкальном инструменте под названием «балалайка». Она означает иное: осознание недопустимости абсолютизации локальных и далеко не универсальных в рамках страны явлений, придания им гипертрофированного характера и т. п. То же происходит и с «мифом о прецеденте». Этот миф возник, конечно, не на пустом месте. Следовательно, когда мы говорим здесь об общем ненормативном характере прецедента в англосаксонском праве, то вовсе не утверждаем, что принцип stare decisis не имеет в Англии или США никакого юридического значения. Более того, мы не утверждаем, что некоторые судебные прецеденты (коих очень мало) приобретают-таки абсолютно обязательный характер. Наконец, мы не утверждаем, что российские и английские (американские) судьи одинаково воспринимают ранее вынесенные судебные решения. Так что же мы утверждаем или, иначе говоря, чем же на самом деле является судебный прецедент? Начнем с общей ситуации. Судебный прецедент не содержит норм права, т. е. не является источником права в континентальном понимании в том смысле, что английский или американский судья не обязан ему следовать. Ссылка на предшествующие прецеденты на самом деле есть его право, а сам выбор нужного прецедента является результатом обыкновенного дискреционного усмотрения. Именно поэтому англо-американский судья не превращается и никогда не превращался в подобие «электронной базы данных» сотен тысяч судебных решений, принятых за истекшие столетия и принимаемых фактически ежедневно <8>. Именно поэтому тот же судья может не волноваться по поводу разницы во времени между востоком и западом США, если вернуться к нашему несколько гипертрофированному примеру. Именно поэтому учет позиций «родственных» иностранных юрисдикций не трансформирует все того же судью в филиал института сравнительного правоведения. Если прецедент судье известен (или стал известен в результате активности, допустим, адвокатов сторон), отлично: тогда он подумает, имеет ли смысл применять его в данном деле. Если нет — ничего страшного. ——————————— <8> Более того, как заметил один известный английский юрист (J.-A. Jolowicz), «создание электронных банков данных судебных решений угрожает правилу судебного прецедента, поскольку не дает возможности предавать забвению скверные решения, не дает возможности пропускать все решения через сито «естественного отбора» (цит. по: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. Л. В. Головко. М.: Статут, 2007. С. 224; см. также французское издание: Cabrillac R. Les codifications. Paris: PUF, 2002. P. 143). Не правда ли, странная мысль, если исходить из «нормативности» судебного прецедента и ее обязательности для судей?
Под таким углом зрения становится понятным замечание Макса Вебера, сделанное в его знаменитой «Социологии права»: «…английская юридическая мысль в значительной мере есть «эмпирическое» искусство. Судебные «прецеденты» полностью сохранили здесь свое былое юридическое значение, но с той лишь оговоркой, что считается «несправедливым» (unfair) ссылаться на слишком старые прецеденты, т. е. те, которые приняты более века назад…» <9>. Если же воспринимать прецедент как подлинную норму права в континентальном понимании, то мысль выглядит парадоксальной: источник права действует, но ссылаться на него почему-то «несправедливо». Отчего же такой источник формально не отменен и как может быть «несправедлива» ссылка на действующее право? Впрочем, никакого теоретического вывода из своего наблюдения М. Вебер не сделал, скорее всего, потому, что решал совершенно иные научные задачи. ——————————— <9> Weber M. Sociologie du droit / Trad. par J. Grosclaude. Paris: PUF, 1986. P. 229 — 230.
Вывод последовал много позже — в блестящей работе по сравнительному правоведению П. Леграна, известного своим одинаково свободным владением как континентальной, так и англосаксонской юридической методологией <10>, без чего такой вывод вряд ли был бы возможен, по крайней мере в рамках правового пространства стран civil law. Позволим себе поместить здесь достаточно обширную выдержку из его работы — она того заслуживает: «Приведу еще один пример эпистемологической пропасти между романскими правовыми системами и правовыми системами common law. Мой словарь Лярус (Larousse) следующим образом определяет common law: «совокупность правовых норм, которые составляют основу правовых систем стран английского языка». Вот прекрасная иллюстрация одного из подводных камней, которых опытному компаративисту следовало бы избегать. Если понятие «правовая норма» превосходно известно французскому юристу или его нидерландскому коллеге — разве Дигесты не упоминали в пятидесятой книге о regulae juris? — то оно совершенно незнакомо правовой мысли common law. Помимо того что представление common law в виде совокупности правовых норм способствует превращению его в некую автономную субстанцию, оно выдает стремление рассматривать common law через призму понятия, совершенно ему «чуждого» <11>. Уже Бентам понял это, когда писал: «В качестве системы общих правил common law есть исключительно плод воображения» <12>. Отсутствие какого бы то ни было канонического измерения в любом английском решении, даже если это решение Палаты лордов, приводит к тому, что оно не имеет ни малейшей принудительной силы в качестве нормы права, т. е. лишено всяческого регулятивного воздействия за пределами того конкретного дела, по которому вынесено. Судья, рассматривающий последующий спор, совершенно свободен или воспользоваться предыдущим решением (что он всегда может сделать, проведя параллели в фактических обстоятельствах, в частности с помощью аналогии), или заявить, что предыдущее решение неспособно определить его собственное решение (фактическая аналогия, скажет он, не выглядит разумной) <13>. В силу того, что у судьи всегда есть выбор, признать или не признать себя связанным прецедентным решением, иначе говоря, в силу того, что он ни в коей мере не обязан следовать предыдущему решению, отнюдь не претендующему на всеобщее применение, последнее и не может рассматриваться в качестве правовой нормы (и разумеется, исходя из того, что первоначальное решение не рассматривается в качестве правовой нормы, у судьи и возникает выбор, считать себя или не считать связанным предыдущим решением)» <14>. Добавим, что П. Легран пишет об отсутствии обязанности следовать предыдущему судебному решению в том случае, когда судья о нем знает. Но у судьи также нет обязанности знать обо всех предыдущих судебных решениях, если на них прямо не ссылаются участники судопроизводства (поиск «подходящих» прецедентов есть во многом именно задача сторон в состязательном процессе). ——————————— <10> О персоналии П. Леграна см.: Кабрияк Р. Кодификации / Пер. Л. В. Головко. С. 280. <11> Cotterrell R. The Politics of Jurisprudence. L.: Butterworths, 1989. P. 22 (примечание П. Леграна). <12> A Comment on the Commentaries. Oxford: Oxford University Press, 1928. P. 125 [с. 1775] (примечание П. Леграна). <13> Именно по причине того, что у последующего судьи есть возможность расценить предыдущее решение в качестве прецедента, выносящий последнее судья при любых обстоятельствах проявляет крайнюю внимательность к гипотетическому будущему влиянию своего решения (см.: Rudden B. Courts and Codes in England, France and Soviet Russia // Tulane Law Review. 1974. Vol. 48. P. 1017 et 1025) (примечание П. Леграна). <14> Legrand P. Le droit compare. Paris: PUF, 1999. P. 80 — 81.
На самом деле миссия английского или американского судьи напоминает отнюдь не работу законодателя, формулирующего абстрактные и обязательные правовые нормы всеобщего применения. Она напоминает совершенно иное: работу ученого-юриста, перед которым находится безграничное количество литературных доктринальных источников — монографий, трактатов, статей, комментариев и т. д., изданных в самые разные эпохи, причем нередко на разных языках. Ни одним из этих источников он формально не связан, кроме разве что наиболее выдающихся, хотя и здесь связанность скорее «моральная», нежели правовая. Об этом, впрочем, далее. Но не будучи обязан процитировать какой-то определенный источник, уважающий себя ученый-юрист «обязан» процитировать надлежащее количество источников, иначе труд его не воспримут коллеги по цеху. Конкретное же число источников, их подбор, оценка и т. д. — это уже личное дело самого ученого. Мы можем не соглашаться с его позицией, критиковать ее и т. д., но не можем не признать, что он надлежащим образом выполнил свои профессиональные обязанности, если… подкрепил собственную точку зрения достаточным количеством ссылок на источники, т. е. привел свою аргументацию в надлежащую форму. Точно так же действует и англо-американский судья, только вместо литературных источников он чаще всего должен использовать в качестве «ссылок» какие-то предыдущие судебные решения (подчас иностранные), иначе его собственное решение не покажется коллегам убедительным <15>. ——————————— <15> Впрочем, сугубо литературные источники также иногда могут быть предметом интереса англо-американских судей. Характерен пример, приводимый известным английским компаративистом, сэром Б. Маркезинисом, когда один из английских лордов, решив «обойти» прецедентное судебное решение, построенное на аргументации другого лорда, сославшегося на концепцию Аристотеля о «распределительной юстиции», попросил адвоката «пробежаться» по электронным базам данных и подготовить справку, часто ли английские судьи ссылались в прошлом на Аристотеля. Результат его более чем удовлетворил: обнаружилась лишь одна ссылка в решении по налоговому спору, т. е. низкая цитируемость Аристотеля послужила аргументом contra судебного прецедента (Markesinis B. Juges et universitaires face au droit compare. Histoire des trente-cinq dernieres annees / Trad. par M. Aubremont-Jestaz. Paris: Dalloz, 2006. P. 177).
В этом смысле судебный прецедент есть отнюдь не нормативно-обязательный источник права, а доктринальный источник идей, откуда англо-американские судьи черпают необходимые им подходы, конструкции, формулировки, занимаясь по сути… сугубо доктринальной работой. Стоит ли в такой ситуации удивляться, что «в отличие от континентальных правовых систем, где великие имена правоведов представлены именами авторов трактатов и ученых (Дома, Порталис, Жени), в Соединенных Штатах великие имена правоведов — это имена судей (Джон Маршалл, Оливер У. Холмс, Эрл Уоррен)» <16>? ——————————— <16> Zoller E. Op. cit. P. 80 — 81.
В сущности прецедентное право имеет абсолютно доктринальный характер, заменяя собой то, что в континентальной Европе известно под наименованием «юридическая наука». Именно с научным юридическим сочинением, а не с нормативно-правовым актом и следует сравнивать легендарный и столь ныне модный в России судебный прецедент. Подспудно эта несложная, но отчего-то так четко и не сформулированная мысль находит свое отражение уже у М. Вебера, когда он пишет, что в практике Англии и США «значение прецедента варьируется не только… в зависимости от иерархического положения создавшей его судебной инстанции, но также в зависимости от персонального авторитета судьи… Согласно американской концепции, судебное решение есть личное творческое произведение судьи, которое цитируется по имени последнего, что тем самым противопоставляет его анонимным и бюрократическим судебным юрисдикциям, заседающим в европейских трибуналах» <17>. ——————————— <17> Weber M. Op. cit. P. 230.
Иначе говоря, если в континентальной Европе все юридическое творчество было формально и официально выведено за пределы максимально забюрократизированных законодательства и судебной практики, составив третий элемент правовой деятельности — знаменитую доктрину (или науку), то в англосаксонских странах этого не произошло. Английский или американский судья остался творцом правовых идей, работающим в некоем свободном доктринальном измерении, и исключительно в таком смысле следует говорить о его «правотворческой» роли. Он является «правотворцом» не в смысле генератора обязательных правовых норм, но в смысле генератора доктринальных научных идей. Именно поэтому в Англии достаточно поздно появились юридические факультеты университетов и именно поэтому «до недавнего времени, во всяком случае до Остина, в Англии практически не существовало такого правоведения, которое заслуживало бы называться «наукой» в континентальном значении данного понятия» <18>. Позволим себе лишь слегка уточнить эту мысль М. Вебера: юридической науки не существовало в Англии в концептуальном смысле, т. е. там не была известна сама концепция «юридической науки». Но в функциональном смысле «наука», конечно же, присутствовала: ее роль выполняла доктрина судебного прецедента, а в качестве ученых-профессоров выступали английские судьи. ——————————— <18> Ibidem.
Другое дело, что качественная доктринальная работа требует столь же качественного научного аппарата. Нельзя, как мы уже отмечали, представить для публикации серьезную научную статью, не подкрепленную некоторым количеством ссылок (в апологетическом или критическом духе) на труды своих коллег и предшественников, в свою очередь ранее уже опубликованные в серьезных академических изданиях. Так строилась и строится континентальная доктрина. Точно так же нельзя предложить серьезное судебное решение по заслуживающему внимание спору, не подкрепив его некоторым количеством ссылок (опять-таки в апологетическом или критическом духе) на уже вынесенные решения своих коллег и предшественников, обладающие в судебном мире определенным авторитетом. Так строилась и строится теория «судебного прецедента» — англосаксонский вариант правовой доктрины. Какая в сущности разница, где предлагать юридические подходы и конструкции: в специальных статьях или в судебных решениях? В последнем случае они, разумеется, менее абстрактны, но от этого не менее теоретически значимы. Через призму идеи «научного аппарата», с помощью которого английский или американский судья придает должную форму своим доктринальным изысканиям, следует понимать и саму технику приведения мотивов судебного решения в англосаксонском праве. Она, собственно, и составляет центральный технический элемент учения о судебном прецеденте. Как отмечается в литературе, «судья обязан составить мотивированное мнение [opinion] для обоснования выносимого им решения. Мнение судьи должно быть оформлено в полном соответствии с давнишними судебными традициями, касающимися необходимости изложения обоснований и мотивировок решения. Фраза «нам так казалось» не является достаточным основанием для принятия судебного решения… традиционное требование системы общего права представить «мотивированное уточнение» [reasoned elaboration] судебного прецедента и другие стандарты «профессионального мастерства» [craftsmanship] в отношении мотивированного решения и составления письменного мнения по делу ограничивают свободу судей выносить решения по своему усмотрению. Эта точка зрения подкрепляется мнением судей, которые иногда жалуются, что им и хотелось бы решить дело определенным образом, но соответствующее мотивированное решение «никак не формулируется»… ссылки на прошлые прецеденты имеют принципиальное значение и неизменно включаются в мотивировочную часть судебного решения» <19>. И где здесь нормативность судебного прецедента? Где пресловутая связанность суда предыдущими судебными решениями? Прецедент — это лишь доктринальный способ подбора необходимой «сноски» для обоснования столь же доктринальной позиции, положенной в основу решения по конкретному делу — для сторон спора, разумеется, далеко не доктринальному, а обязательному (но только для них!). ——————————— <19> Бернам У. Указ. соч. С. 116 — 117.
Итак, из общей идеи о не нормативном, но доктринальном характере предшествующих судебных решений в англо-американском праве вытекает, что судья ими не связан, т. е. формальная обязанность им следовать на нем не лежит. Его обязанность <20> заключается в другом: надлежащим образом мотивировать свое решение, для чего он вправе ссылаться на любые доктринальные источники, основную массу которых составляют предшествующие судебные решения (прецеденты). ——————————— <20> Речь опять-таки идет об обязанности не позитивной (основанной на каком-либо нормативном акте), но скорее традиционной — сложившейся постепенно и ставшей доброй традицией, неукоснительно, впрочем, чтимой.
Есть ли здесь англосаксонская специфика? Разумеется, есть. Но она заключается отнюдь не в том, что предшествующие судебные решения для англо-американских судей являются обязательными источниками права, содержащими правовые нормы, а для континентальных судей таковыми не являются. Это все мифология. Специфика заключается в том, что англо-американский судья, найдя нужный ему подход, изложенный в судебном прецеденте, а иногда и в литературном труде, прямо сошлется в своем решении на соответствующий источник информации, усилив с его помощью собственную аргументацию. Континентальный судья, строго говоря, занимается тем же, просматривая не только законодательство (это он обязан делать), но и научные статьи, книги, предыдущие судебные решения и т. д. Но в отличие от своего английского или американского коллеги российский или французский судья никогда не сошлется в решении на подлинный источник собственного вдохновения, даже если полностью «перепишет» предложенный в научном сочинении или каком-то другом судебном решении подход. Иначе говоря, он просто «не проставит» ссылку (сноску), поскольку континентальная традиция не только не обязывает его делать это, но, напротив, расценивает такую манеру аргументации для судьи как неприличную (он же не «наукой» занимается). Вот, собственно, и вся разница. Более того, здесь-то и кроется недопонимание в споре об источниках права: являются ими «прецеденты» или, допустим, труды великих ученых или нет. Возьмем в качестве сугубо методологической иллюстрации известнейший пример со ставшим классическим решением Конституционного совета Франции от 23 января 1987 г., в п. 15 которого предложено определение административного права. Не стоит, наверное, напоминать, что именно данное определение ныне считается в этой стране официальным. Но на самом деле п. 15 решения Конституционного совета Франции от 23 января 1987 г. слово в слово воспроизводит определение административного права, данное в учебнике административного права выдающегося французского юриста Жоржа Веделя <21>, хотя в самом тексте решения Конституционного совета, разумеется, нет ни упоминания фамилии Веделя, ни упоминания названия его труда. Что считать здесь источником права: труд Ж. Веделя или решение Конституционного совета? Англо-американский юрист скажет, что источником права является труд Ж. Веделя, поскольку именно последний лично сформулировал интересующее нас определение, и выразит недоумение, почему Конституционный совет на него в своем решении не сослался, обвинив уважаемую инстанцию едва ли не в «плагиате». Континентальный юрист скажет, что источником права является решение Конституционного совета, так как только после его принятия ранее сугубо доктринальная идея приобрела официальный характер. ——————————— <21> Rousseau D. Une decision non commentee existe-t-elle? Ou commenter est-ce delirer? // Bechillon D. de. L’architecture du droit. Melanges en l’honneur de Michel Troper. Paris: Economica, 2006. P. 900 — 901 (здесь же см. ссылки на соответствующие страницы соответствующего издания Ж. Веделя); о персоналии Ж. Веделя и его творчестве см.: Беше-Головко К. Жорж Ведель: ода демократии, проникнутая гуманизмом и реализмом // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. N 1. С. 196 — 209.
Вот, пожалуй, и весь спор об «источниках» права, для решения которого сначала надо выяснить, считаем ли мы «источником» исключительно источники обязательных норм или к ним также следует причислить те «источники», из которых мы черпаем наши знания о праве (подходы, конструкции, теоретические решения…). Если заменить в приведенном примере труд Ж. Веделя каким-либо «предыдущим судебным решением», то будет то же самое: одни судьи на такое решение обязаны сослаться, если, конечно, полагают, что оно для них интересно и полезно; другие судьи станут использовать его «негласно» и незаметно, ни разу не упомянув в своем собственном решении. Но жестко и формально обязательным оно не является ни для вторых, ни для первых. Существует еще один нюанс. Континентальный судья связан, как известно, законом. Каково бы ни было качество этого закона, он всегда сможет «спрятать» подлинный источник (научную статью, «другое» судебное решение и т. д.) примененной для разрешения спора теоретической юридической конструкции за ссылками (иногда даже сугубо формальными) на какой-нибудь нормативно-правовой текст. Такой подход придает судебному решению известную легитимность и не оставляет его без должной и требуемой всеми мотивировки. Но как быть судье common law, применяющему право неписаное, т. е. не основанное на законе? Чем связан он, если, как мы выяснили, никакой обязанности следовать прецедентам у него в реальной действительности нет? В том-то и дело, что ничем. Common law предполагало полную свободу судьи «изобретать» право буквально на пустом месте, опять-таки уподобляя его университетскому профессору, фонтанирующему идеями de lege ferenda. В такой ситуации требовалось либо официально признать полное отсутствие правовой определенности, сопряженное с непредсказуемостью судебных решений, либо найти какой-то «самоограничитель». Английские судьи предпочли второе, изобретя «теорию прецедента». Как отмечается в литературе, «механизм прецедента не имел с самого начала той строгости, которой достиг с течением веков. Он выглядел скорее некоей дисциплиной, которую судьи сами себе навязали, дабы избежать упреков в произволе, и которая постепенно стала их привычкой» <22>. ——————————— <22> David R., Blanc-Jouvan X. Op. cit. P. 61.
Иначе говоря, если не подкреплять судебные решения «сносками» на другие решения, они будут выглядеть неубедительно или даже, скажем жестче, нелегитимно, и в конечном итоге общество такие решения не примет. Если же привести их в надлежащую форму, объявив при этом urbi et orbi, что решение построено не на пустом месте, а является неукоснительным следованием предыдущей судебной практике, то общество вполне может данной идее поверить. Качество и успех любого доктринального труда не в последнюю очередь зависит, как мы знаем, от представленной академическому сообществу «упаковки» — научного аппарата, мастерства ссылки, библиографии… Миф о прецеденте был в немалой степени нужен самим англо-американским судьям, и они с этой задачей справились блестяще <23>. ——————————— <23> Прецедент — это своего рода второй способ легитимации (причем главным образом материально-правовой), существующий наряду со знаменитой легитимацией с помощью процесса или надлежащей процедуры (процессуальный способ), глубоко теоретизированной Никласом Луманом (см.: Luhman N. La legitimation par la procedure / Trad. par L. K. Sosoe. Laval: Cerf, 2001).
Ситуация особенно обострилась с приходом буржуазных революций и развитием капитализма. Как заметил непревзойденный специалист в этой области М. Вебер, «…Великобритания добилась лидерства в развитии капитализма не благодаря структуре своего права, но отчасти вопреки ей. Понимая это, буржуазия потребовала рациональной судебной практики и, как следствие, систематизированного и рационализированного формального права… где субъективные права имели бы в качестве своих источников объективные нормы» <24>. Чем ответили английские судьи? Тем, что по далеко не случайному совпадению только и именно «в XIX в. — эпохе экспансии индустрии и торговли, вызывающей потребность в большей правовой определенности в юридических отношениях, правило прецедента было закреплено самими судьями в качестве некоей правовой нормы» <25>. Другими словами, даже в самой Англии теория прецедента приобрела хоть какую-то юридическую силу совсем недавно, а отнюдь не с «незапамятных времен», т. е. приобрела ее тогда, когда common law было уже давно сформировано. Но даже в этом случае речь идет скорее о внешней легитимации common law в условиях повсеместного развития капитализма, а не о внутренней сущностной революции самого common law. ——————————— <24> Weber M. Op. cit. P. 168. <25> David R., Blanc-Jouvan X. Op. cit. P. 62.
Для нас же важно, что обязательная и правильно оформленная ссылка на какие-то (причем подобранные по усмотрению самого судьи) предшествующие судебные решения есть не более чем способ внешней легитимации судебной власти, позволяющий показать обществу, что судья действует не произвольно, а на основе жестких ограничителей. По способу легитимации англо-американская судебная деятельность заметно отличается от континентальной: в последнем случае главным ограничителем для судьи является легендарный «закон», и его, как правило, достаточно. Впрочем, к этому нам еще предстоит вернуться. Наконец, не стоит «выбрасывать вместе с водой младенца». Когда мы утверждаем, что англо-американский судья совершенно не связан предшествующими судебными решениями и вправе абсолютно свободно подбирать нужные ему прецеденты, не будучи обязан знать всю их совокупность, то мы вполне отдаем себе отчет, что некоторые судебные решения он знать все-таки должен: они имеют для него особую юридическую силу. Ясно, что нельзя представить себе, допустим, ни одного американского судью, который бы глубоко не чтил решения Верховного суда США по делу Marbury v. Madison или по делу Miranda. Ясно также, что эти решения, по сути, являются для рядового судьи абсолютно обязательными. Если продолжить наше сравнение всей массы «судебных прецедентов» с огромной библиотекой, на полках которой судья ищет нужный ему фолиант и о «фондах» которой он имеет весьма приблизительное представление, то в данной библиотеке есть особая полка — содержание стоящих там книг судья знает наизусть. Другой вопрос, как и когда соответствующие книги попадают на эту заветную полку? Попадают они туда отнюдь не по чьему-то приказу или решению, а каким-то подчас незаметным и едва уловимым образом — примерно так же, как писатели попадают в «классики» (в какой день и час и по чьему решению?). Даже когда мы сталкиваемся с совершенно выдающимися судебными прецедентами, приходится признать, что «определить точную дату вступления его [прецедента] в силу невозможно, поскольку неписаная норма формируется в течение неопределенного времени» <26>, ничем в этом плане не отличаясь от всего common law в целом, которое «не имеет даты» <27> (в отличие от кодексов и прочих законов). Более того, когда мы сталкиваемся с совершенно выдающимися судебными прецедентами, нельзя с абсолютной уверенностью сказать, как и почему они приобрели такой авторитет. Но здесь опять-таки все встает на свои места, едва только мы мысленно сопоставим англо-американское прецедентное право и континентальную доктрину. Разве среди бездны литературных юридических источников в библиотеках континентальных ученых-юристов нет таких, которые пользовались бы непререкаемым авторитетом? Разве мы можем сказать, в какой момент и по каким причинам они приобрели подобный авторитет, по крайней мере можем ли мы это сказать «с ходу», лишь заглянув в какой-нибудь справочник и не проводя специальных научных исследований «историко-юридического» характера с подчас непредсказуемым результатом? ——————————— <26> Богдановская И. Ю. Указ. соч. С. 31. <27> Legrand P. Op. cit. P. 84.
Кроме того, непререкаемый авторитет приобретают на континенте не только отдельные авторы, но и отдельные доктринальные идеи, нигде не формализованные и часто становящиеся анонимными. Приведем лишь один пример. Любому, причем вовсе не обязательно высокообразованному, российскому юристу знакома уголовно-правовая конструкция состав преступления. Ее применяет едва ли не каждый милиционер. На нее постоянно ссылается закон: УК, УПК и др. Знаем ли мы, что такое «состав преступления» и из каких элементов он состоит? Конечно. Мешает ли нам, что ни один закон этих элементов не раскрывает, т. е. речь идет о сугубо доктринальной идее? Совершенно не мешает. Напротив, мы считаем, что это и есть право, выгодно отличающееся от неимоверных залежей нормативного «хлама» с их никому не нужными уточнениями, определениями и т. д., рассчитанными на безграмотного невежду. Но в какой момент идея состава преступления стала правом? Смеем предположить, что на этот вопрос не ответит никто. Наиболее культурные юристы вспомнят проф. А. Н. Трайнина и его труды. Кто-то упомянет немецких классиков и проф. А. А. Пионтковского. Если мы углубимся в «науковедческие» исследования, посвященные развитию отечественной уголовно-правовой доктрины XX в., возможно, что нас на этом пути ожидает немало сюрпризов. Но какое значение они имеют для практики? Правоприменитель прекрасно использует сугубо доктринальную конструкцию, не задумываясь, в какой день и час она приобрела официальный характер (это нельзя установить) и кто о том принимал властное решение (скорее всего, никто). Почему же к судебному прецеденту — своеобразному варианту англосаксонской доктрины — мы подходим с другими мерками, стремясь в карикатурно-позитивистском духе обнаружить в нем элементы «властного решения», «руководящих указаний» и т. д.? И последний вопрос: можно ли технически перенести англо-американскую технику прецедента на континентальную, скажем, российскую, почву? Нам еще предстоит рассмотреть проблему судебного прецедента в континентальном праве. Но уже здесь следует признать, что сугубо методологических препятствий для этого нет. Надо лишь «развязать» судьям руки, т. е. дать право самостоятельно подбирать по своему усмотрению необходимые им судебные решения, обязывая лишь аккуратно ссылаться на них в тексте собственных решений или, иными словами, приводить в надлежащую с точки зрения аргументации форму высказываемую ими позицию при разрешении спора. Тогда и появятся в нашем праве решения, где судья X будет отмечать, что он внимательно изучил мнение судьи высшего суда Y, высказанное им в известном решении по делу Z, но находит его не подлежащим применению к данному спору, поскольку… (или, напротив, находит подлежащим применению, поскольку…). Это, собственно, и есть англо-американская техника прецедента, причем техника весьма и весьма симпатичная, повышающая авторитет каждого отдельного судьи и судебной власти в целом. Но здесь надо четко отдавать себе отчет, что такая техника не имеет никакого отношения ни к предсказуемости судебных решений, ни к борьбе за правовую определенность, о чем предупреждал еще М. Вебер, ни к поиску легендарного «единообразия судебной практики». Идея прецедента как средства единообразия судебной практики вообще выглядит сплошным курьезом, если понимать механизм его формирования или хотя бы вспомнить, что произошло с common law в штатах США, когда эти штаты начали применять, казалось бы, единые прецедентные правила английского происхождения, превратившиеся в совершенно автономные правовые системы. Это, как мы помним, привело к разработке в США знаменитых единообразных законов и кодексов (Единообразный торговый кодекс и др.) <28>, и данная история плавно подводит нас к континентальной традиции и роли в ней судебного прецедента. ——————————— <28> См. об этом и о «балканизации» common law на уровне американских штатов в работе: Zoller E. Op. cit. P. 75 — 79.
Существует ли судебный прецедент в континентальном праве?
Отношение к судебному прецеденту так называемого «континентального права» не столь однозначно, как принято думать, причем речь идет отнюдь не только о «новейших тенденциях». С одной стороны, еще в позднем римском праве, по сути предопределившем всю последующую романо-германскую традицию, была сформулирована максима — non exemplis sed legibus iudicandum (C. 7. 45. 13), т. е. споры разрешаются не на основании примера, но на основании закона. Иными словами, римское право отказывалось придавать предшествующему судебному решению качество институционального ограничителя. С другой стороны, по мере профессионализации судебной деятельности каждый европейский континентальный суд «создавал собственную практику, составлявшую некое судебное обыкновение, usus fori, которое могло быть установлено исключительно путем изучения предшествующих судебных решений, принятых этим судом» <29>. Решения французских парламентов (высших региональных судебных органов), канонической Rota Romana или даже имперского германского Reichskammergericht (хотя последние не мотивировались) публиковались (иногда самими судьями, иногда адвокатами, иногда учеными), изучались и чаще всего «учитывались судьями этих судов, хотя формально такая обязанность на них не лежала» <30>. ——————————— <29> Stein P. Le droit romain et l’Europe. Essai d’interpretation historique / Trad. d’Anne Aboh d’Auvergne avec la collaboration de J.-Ph. Dunaud et A. Keller. 2 ed. Geneve; Zurich; Bale: Bruylant, 2004. P. 112. <30> Ibid. P. 113.
Таким образом, до середины XVIII в. никто никогда не отрицал в континентальной Европе роль судебного решения как важнейшего источника информации о правовых нормах, институтах и конструкциях. В чем же тогда разница между континентальной традицией и доктриной common law? Она достаточно принципиальна. Английское common law являлось «общим правом» в том смысле, что было предназначено для преодоления местной правовой раздробленности в условиях наличия центрального правительства и центрального королевского суда (с XII в.), но отсутствия какого-либо «центрального» (надлокального) права. Ни римское, ни каноническое (католическое) право таковым в Англии по разным причинам не стало <31>. Иначе говоря, центральные английские суды, не желая подчиняться местным норманнским или саксонским обычаям, оказались в материально-правовом вакууме и начали создавать собственное «общее» право, ставшее на тот момент символом юридической унификации. Никаких других нормативных или ненормативных (доктринальных) источников, кроме судебного решения, данное право не имело и иметь не могло. ——————————— <31> См. об этом: Ibid. P. 74 — 75.
В раздробленной континентальной Европе также существовала потребность в своем «общем праве», коим и стало хорошо известное jus commune. Но в его основу были положены не процессуальные, но материально-правовые методы, а само оно строилось как универсальная юридическая наука, черпавшая свои идеи из Corpus juris civilis и в дальнейшем еще из канонического права. Именно римско-каноническое право, развивавшееся главным образом теоретиками права, а не судьями, и стало континентальным вариантом «общего права». Судьи же, напротив, явились носителями usus fori, т. е. местных правовых традиций. Другими словами, если английские судьи предстали на территории острова в виде «унификаторов», то их коллеги на континенте, наоборот, оказались со своими «прецедентами» носителями местных феодальных обычаев, т. е. явными «деунификаторами». В такой ситуации в континентальном праве не встретилось ни малейшей надобности теоретизировать и институционализировать «судебный прецедент», поскольку единая и крайне важная в условиях строительства централизованных государств универсальная правовая материя была заложена отнюдь не в прецедентах, а в римско-канонической «юридической науке». Доктрина прецедента оказалась просто-напросто ненужной развитию континентального права, если не сказать, что она могла быть для него вредной. Если в Англии к XVIII — XIX вв. для нереволюционного обеспечения правовой определенности потребовалось легитимизировать судейское правотворчество, введя его хоть в какие-то институциональные рамки в виде теории «судебного прецедента», то в континентальной Европе нужно было совершенно иное, фактически противоположное: легализовать римско-каноническую «юридическую науку», переведя ее в плоскость закона и одновременно окончательно уничтожив «судейский феодализм» с его ссылками на предшествующие судебные решения. Для этого оказались необходимыми подлинно революционные мероприятия: провозглашение верховенства закона, перенос римско-канонического права в кодексы (Гражданский кодекс и др.) и «ограничение полномочий судей, чтобы навсегда лишить их возможности заниматься какой-либо иной деятельностью, помимо строгого исполнения законов, принятых законодательным органом» <32>. Считается, что все названные мероприятия состоялись сразу после слома абсолютизма и событий Великой французской революции, хотя современные исследователи, в частности автор самой известной сегодня во Франции монографии о юридическом значении судебной практики Ф. Зенати, вносят уточнение: новая правовая система, построенная на центральной роли закона, стремящаяся к кодификации и отрицающая предшествующие судебные решения как источники права, стала активно создаваться еще в период монархии, а «революция лишь облекла ее в республиканскую форму» <33>. ——————————— <32> Бернам У. Указ. соч. С. 111. <33> Zenati F. La jurisprudence. Paris: Dalloz, 1991. P. 34.
Не стоит также забывать о той уничижительной критике, которой на доктринальном уровне подверглась судебная практика со всеми ее «прецедентами» со стороны столь влиятельных в то время великих французских философов Просвещения: Ж.-Ж. Руссо, требовавшего стереть само словосочетание «судебная практика» из «нашего языка», Ш.-Л. Монтескье, видевшего в судьях лишь «уста, произносящие слова закона», и Вольтера. Последний отличался особым сарказмом: «На следующий день мое дело слушалось в одной из палат Парламента (регионального суда в то время. — Л. Г.), и я его полностью проиграл с разницей в один голос; мой адвокат сказал мне, что я бы выиграл его с разницей в один голос в другой палате. «Вот комедия, — сказал я ему, — тем самым получается, что сколько палат, столько и законов». «Да, — ответил он, — существует двадцать пять комментариев Парижского кутюма; иными словами, двадцать пять раз доказано, что Парижский кутюм толкуется, как заблагорассудится; и если бы было двадцать пять судебных палат, было бы двадцать пять различных судебных практик. Рядом с нами, — продолжил он, — в пятнадцати лье от Парижа расположена провинция, именуемая Нормандией, и там Ваше дело бы рассмотрели совершенно иначе, чем здесь» <34>. О каком судебном прецеденте могла идти речь в такой интеллектуальной обстановке? Французская судебная практика представала в глазах современников символом архаизма, феодализма, реакции и т. д. Ее требовалось уничтожить, что и было с успехом сделано. ——————————— <34> Цит. по: Cabrillac R. Introduction generale au droit. 7 ed. Paris: Dalloz-Sirey, 2007. P. 131, 139.
Французский Гражданский кодекс, надолго (по крайней мере до немецких пандектистов и Германского гражданского уложения) заменивший в континентальной Европе римско-каноническую «юридическую науку», возведя основные ее положения в ранг закона, одновременно в двух своих статьях «расправился» и с судебной практикой, поставив «крест» на самой возможности развития в последующем доктрины «прецедента». Статья 5 ФГК провозгласила, что «судьям запрещается разрешать дела, переданные на их рассмотрение, путем формулирования общих положений и нормативных предписаний». К слову, данная норма, имеющая не столько гражданско-правовой, сколько общеправовой характер, спустя полтора столетия была абсолютно дословно воспроизведена в ст. 6 Судебного кодекса Бельгии 1967 г. Не меньший резонанс приобрела ст. 1351 ФГК: «Судебное решение имеет законную силу только для того, в отношении кого оно вынесено…» В процессуальной теории этот принцип получил наименование «относительная законная сила судебного решения» (autorite relative de la chose jugee). В соответствии с ним решение обладает признаками res judicata исключительно в отношении сторон процесса. Именно на данном принципе построены многие континентальные теоретические конструкции, известные в том числе и российскому праву, например учение о преюдиции <35>. ——————————— <35> Англо-американское право исходит из того, что суд может воспринять правовое решение, предложенное другим судом, но фактические обстоятельства каждого дела уникальны и неповторимы. Именно поэтому фактические обстоятельства подлежат устному и непосредственному доказыванию в каждом процессе. Ссылаться на преюдициальное решение другого суда нельзя — можно ссылаться лишь на его прецедентное значение, если в результате доказывания суд придет к выводу об идентичности фактических обстоятельств двух дел (что зависит от его усмотрения и оценки доказательств). Континентальное право, запретив судье прямо ссылаться на правовое решение, предложенное другим судьей, в силу принципа «относительной законной силы судебного решения», стало размышлять о том, как далеко простирается данная «относительность». В результате родилась теория преюдиции: фактические обстоятельства, установленные одним судом, могут восприниматься без доказывания другим судом. Подчеркнем, что речь идет об обстоятельствах исключительно фактических, но не правовых, поскольку суд не связан толкованием правовых норм, предложенным другим судом. Именно в забвении данного положения лежат причины курьезов новейшего развития отечественного законодательства, в частности модификаций многострадальной ст. 90 УПК РФ. Без четкого разграничения в судебном решении правовой аргументации и фактических обстоятельств дела нельзя не только на теоретическом уровне правильно уяснить разницу между англо-американским прецедентом и континентальной преюдицией, но и на сугубо практическом уровне сколько-нибудь внятно реализовать теорию преюдиции в законе.
На протяжении почти всего XIX в. под влиянием идей Просвещения и техники кодификации в континентальном прикладном правоведении господствовало течение, которое впоследствии критики назовут «школа экзегезы». Для нее почти весь смысл права сводился лишь к комментированию текста кодексов. Нельзя сказать, что представители этой «школы», даже не подозревавшие о ее наличии, вовсе не интересовались судебными решениями. Напротив, первая половина XIX в. характеризуется заметным ростом количества разнообразных сборников судебных решений и, главное, улучшением их качества, чему в немалой степени способствовало создание в 1790 г. общенационального французского Кассационного суда, обязанного мотивировать свои постановления. Дело в другом: такие сборники в основном содержали полные и необработанные тексты судебных решений, изложенные в алфавитном или хронологическом порядке <36>. Реальной ценности в них было немного. Кроме того, никто в то время не видел в судебных решениях, пусть даже опубликованных, «источник права». Речь об этом даже не шла. Для одних юристов, которых Ф. Жестаз и К. Жамэн называют представителями «классической мысли» (близкой к комментаторскому духу «школы экзегезы»), основная функция судебной практики заключалась в выяснении смысла все того же «закона через призму многообразия и разнообразия жизненных фактов» <37>. Для других юристов («модернизаторов», по выражению Ф. Жестаза и К. Жамэна), близких скорее к исторической школе права, судебная практика представляла собой «историю в движении» <38> и не более того. ——————————— <36> См.: Jestaz Ph., Jamin C. La doctrine. Paris: Dalloz, 2004. P. 102. <37> Ibidem. <38> Ibidem.
Так зарождалась континентальная традиция отношения к судебной практике как к чему-то важному, но глубоко второстепенному <39>. В России, так и не преодолевшей «детскую болезнь» экзегетически-комментаторского метода, данная традиция жива до сих пор, достигнув в последнее время каких-то карикатурных размеров с нашим стремлением постоянно вносить «изменения в закон», сводить всю юридическую прикладную теорию к редакционному улучшению законодательных текстов — пресловутому «совершенствованию законодательства» и т. д. В то же время в самой континентальной Европе (прежде всего во Франции) «школа экзегезы» давно и бесповоротно свергнута с доктринального Олимпа в результате теоретической революции конца XIX — начала XX в., во главе которой встали выдающиеся французские профессора права — Ф. Жени, Р. Салей, А. Эсмен, отчасти М. Планиоль и др. Другое дело, что у нас об этом мало известно (чем отчасти и объясняется упорная приверженность континентальным ценностям начала XIX в. с его кодексами и комментариями к ним), поскольку российская дореволюционная наука события рубежа XIX — XX вв. в отечественный научный оборот ввести не могла по абсолютно объективным причинам, не говоря уже о том, чтобы отследить их реальное последующее влияние (оно колоссально!). Советскую же науку все это уже не слишком интересовало… ——————————— <39> Особая ситуация сложилась во французском административном праве, которое, как известно, не было кодифицировано на уровне материально-правовых норм, а формировалось сугубо процессуально — путем появления автономной ветви судебной системы в виде административной юстиции. В результате французские административные судьи оказались в той же ситуации, что и судьи common law, когда наличие судоустройственных и процессуальных норм сопровождалось полным отсутствием норм материально-правовых. Более того, вскоре выяснилось, что никакие другие кодексы, включая ГК и УК, административные судьи применять не должны, поскольку сферы частного и уголовного права не относятся к их компетенции. В такой ситуации административным судьям оставалось только «строить» административное право, т. е., по сути, всю публично-правовую материю, через «судебные прецеденты», которые до сих пор составляют во Франции его источниковедческую основу. Почему же деятельность французских административных судей никак не повлияла на континентальную теорию права? Объяснить это можно лишь тем, что публично-правовая сфера слишком долго оставалась «в тени», не имея того престижа, который имел Гражданский кодекс, а сами представители публично-правовых дисциплин достигли зенита славы (М. Ориу, Л. Дюги, Р. Карре де Мальбер, чуть позже Ж. Ведель) и встали как минимум вровень с цивилистами тогда, когда учение об источниках права уже сформировалось, причем на школьно-хрестоматийном уровне. Повлиять на него в должной степени они просто-напросто не успели.
Что же произошло на рубеже прошлого и позапрошлого веков, разделив французскую гражданско-правовую теорию, а вместе с ней и все континентальное правоведение на «до» и «после»? Как отмечают, пожалуй, самые известные современные французские исследователи событий тех лет Ф. Жестаз и К. Жамэн, «историки имеют обыкновение начинать отсчет XX в. с 1914 г. Но эта дата не обозначает никакого перелома во французской юридической мысли: разрыв с XIX в. происходил постепенно в период с 1880 по 1920 г. В то же время в рамках данного переходного периода необходимо все же выделить два знаковых года: 1899 г. (публикация шедевров Жени и Планиоля) и 1902 г. (основание Р. Салеем «Ежеквартального журнала гражданского права» [Revue trimestrielle de droit civil]). Тем самым для права начало XX в. совпало с его календарным началом» <40>. ——————————— <40> Jestaz Ph., Jamin C. Op. cit. P. 120.
Так, Франсуа Жени в своем легендарном исследовании «Методы толкования и источники позитивного частного права» едва ли не впервые с момента принятия ФГК провозгласил, что источником гражданского права является не только закон, и для континентального правоведения тех лет данная мысль стала подлинной «интеллектуальной революцией» <41>. При этом, объявляя о восшествии на престол новой школы — «свободного научного исследования», которая должна прийти на смену пресловутой «школе экзегезы», Ф. Жени вовсе не ставил под сомнение достижения Гражданского кодекса. Он лишь имел в виду, что юридическая теория не должна сводиться исключительно к комментариям законодательных текстов: право живет и в других источниках, нередко реагирующих на изменения социальной жизни быстрее закона, и к этим источникам, среди которых едва ли не первое место занимает судебное решение, необходимо немедленно обратиться. Для ученого-юриста никакой монополии закона больше быть не должно, как нет для него, впрочем, и монополии судебного решения (ведь есть еще доктрина, обычай и т. д.). ——————————— <41> Malaurie Ph. Anthologie de la pensee juridique. 2 ed. Paris: Cujas, 2001. P. 270.
О том же самом три года спустя во всеуслышание заявили со страниц первого номера «Ежеквартального журнала гражданского права», до сих пор являющегося самым авторитетным европейским континентальным изданием в области частного права, Раймон Салей со товарищи. «Доктрина (мы бы в России сказали «юридическая наука». — Л. Г.) берет судебную практику в качестве основного объекта исследования», — написал во вступительной статье к данному номеру легендарный А. Эсмен <42>. Третий гвоздь в крышку гроба монополии гражданского закона был вбит знаменитым учебником М. Планиоля (1899) с той лишь разницей, что последний стал развивать идею двух источников гражданского права: закона и обычая, под которым он понимал также судебную практику «в качестве обычного права недавнего происхождения» <43>. ——————————— <42> Esmein A. La jurisprudence et la doctrine // Revue trimestrielle de droit civil. 1902. N 1. P. 11. <43> См. подробнее: Jestaz Ph., Jamin C. Op. cit. P. 136.
Отклик на эти научные события превзошел все ожидания. С начала XX в. и до наших дней французское правоведение невозможно представить без систематического, скрупулезного и глубоко профессионального анализа всех мало-мальски значимых судебных решений во всех областях права. Характерно, что с течением времени во Франции изменился даже смысл термина «юриспруденция». Он отошел от своих латинских этимологических корней, став со временем «юриспруденцией судебных решений», чтобы затем вновь превратиться в «юриспруденцию» как аналог «судебной практики». Иначе говоря, во французском языке «юриспруденция» — это сегодня вовсе не наука права, а судебная практика. В настоящее время подготовленные в особой форме доктринальные комментарии к судебным решениям — непременный атрибут любого уважающего себя юридического журнала теоретической или практической направленности. Без полного обзора всех важных судебных решений не может обойтись ни один французский отраслевой учебник права — без такого обзора он может найти место лишь в музее курьезов (в руки его никто не возьмет). Наконец, особым жанром юридической литературы являются так называемые «Grands arrets…», т. е. «Основные судебные решения…» по гражданскому, торговому, уголовному и др. праву. Здесь самые известные ученые помещают подборку знаковых для соответствующей отрасли права решений, но не в полном изложении (оно никому не нужно), а в обработанном виде, где четко разложены по полочкам «фабула дела», «фактические обстоятельства», «правовая аргументация» и т. д. Строго говоря, это и есть основной смысл техники комментария судебного решения, которой после «интеллектуальной революции» Ф. Жени и Р. Салея во Франции обучают со студенческой скамьи. XX в., как мы видим, полностью видоизменил французское представление о «работе» над правовым материалом. Никакого пересказа кодексов, никаких «высосанных из пальца» рассуждений de lege ferenda — только анализ реальных процессов, происходящих в законодательстве, судебной практике и доктрине; только умение обработать и изложить в нескольких понятных каждому специалисту фразах любое (самое длинное и сложное) судебное решение. Мастерство, доведенное до автоматизма… Но изменилось ли что-нибудь на глубинном уровне в представлении французов об источниках права? В том-то и дело, что нет. Строго говоря, сами «интеллектуальные революционеры» рубежа позапрошлого и прошлого веков совершенно не рассуждали в духе: «Даешь прецедент!» Они лишь обращали внимание на абсолютную необходимость системного введения ключевых судебных решений в научный оборот, т. е. разворота вектора доктринального анализа, но не более того. Так, Ф. Жени развивал идею противопоставления формальных источников права, содержащих обязательные правовые нормы, и «авторитетных положений» (authorites), учитываемых в практике, но не имеющих строго нормативного значения. К формальным источникам права он относил закон и обычай, к авторитетным положениям — судебные решения и доктрину, поскольку в них норм как таковых нет — есть лишь «мнения в пользу того или иного юридического подхода, сила которых определяется только степенью их распространенности и внутренней логикой, пусть даже они высказываются отдельными лицами или профессиональным корпусом, наделенными в общественном мнении ореолом компетентности» <44>. М. Планиоль, как мы уже отмечали, также не признавал судебную практику самостоятельным источником права, полагая, что она представляет собой современную форму правового обычая <45>. ——————————— <44> Jestaz Ph., Jamin C. Op. cit. P. 136. <45> Ibidem.
Спустя сто лет французская доктрина так окончательно и не провозгласила судебный прецедент источником права, хотя споры по этому поводу продолжаются. Одни авторы до сих пор следуют концепции Ф. Жени, относя судебную практику к числу «авторитетных положений» и противопоставляя ее закону как официальному источнику права. Такой точки зрения, в частности, придерживался выдающийся французский правовед Ж. Карбонье и поныне придерживается не менее выдающийся французский правовед Ж. Корню. Другие авторы все-таки осмелились пойти дальше Ф. Жени и М. Планиоля, называя судебную практику среди источников права <46>. Но это далеко не общепризнанная позиция. Здесь ничего не меняет даже появление в теории и на практике так называемых принципиальных судебных решений (arrets de principe), которые по степени важности, вне всяких сомнений, отличаются от остальных решений. Строго говоря, сторонники официального признания прецедента в качестве источника права относят к судебным прецедентам только и исключительно arrets de principe. Но как их отличить от других решений? Вот здесь опять начинаются проблемы, так как любое решение обладает лишь «относительной законной силой» и в нем самом не может быть обозначено, что оно имеет принципиальный характер. В противном случае возникнет неизбежное противоречие со ст. 5 и ст. 1351 ФГК — нормами, не только вышедшими на «сакральный» уровень для всей французской правовой системы, но и базовыми для континентального процессуального правопонимания в целом. Никто на них посягать не собирается. ——————————— <46> См. о разных позициях: Cabrillac R. Introduction generale au droit. P. 129 — 130.
Так каковы же критерии, позволяющие определить, что перед нами не простое, но «принципиальное» судебное решение? Ответить на этот вопрос довольно-таки сложно. Среди такого рода критериев называют вынесение решения Кассационным судом Франции (хотя и здесь с оговоркой «чаще всего»), опубликование решения в Бюллетене судебных решений Кассационного суда <47>, его упоминание в ежегодном отчетном докладе Кассационного суда и др. <48>. Но никакой определенности в разграничении рядовых и принципиальных решений нет и в помине. Достаточно сказать, что первый и второй из упомянутых критериев являются взаимоисключающими, учитывая приведенную статистику опубликования решений Кассационного суда. Добавим, что свои «принципиальные решения» есть не только в гражданском и уголовном, но и в административном праве с той лишь разницей, что выносит их не Кассационный суд, а Государственный Совет. Но определенности здесь не больше <49>. ——————————— <47> На самом деле в данном Бюллетене публикуется только около 20% решений высшего судебного органа страны (Ibid. P. 138). <48> Ibidem. <49> См.: Rivero J., Waline J. Droit administratif. 20 ed. Paris: Dalloz, 2004. P. 259.
В целом отношение французской правовой теории к юридическому значению судебной практики достаточно противоречиво и отличается определенными недоговоренностями. Во всяком случае французские правоведы далеки от громогласного провозглашения судебного прецедента источником права. Возникает ощущение, что в этом нет ни малейшей практической необходимости. Действительно, зачем? Судебная практика и без того усилиями Ф. Жени, Р. Салея и их последователей давно находится в центре внимания, тщательно отслеживается и изучается. Но при этом ясно, что континентальное право в любом случае имеет специфику по сравнению с англосаксонским. В конце концов, не отказываются же английские или американские судьи от доктрины common law только потому, что в их странах существуют законы, статуты и т. д. Так почему французы должны отказываться от ценностей своей правовой системы с ее кодексами, особой ролью писаного права и т. д.? Почему они должны вдруг начать приписывать себя к странам case law или прецедентного права? Из слепого подражательства? Чтобы быть как в «цивилизованных странах»? Но они и так чувствуют себя в этом смысле прекрасно, ощущая ничуть не менее «цивилизованными». Никакого российского комплекса неполноценности у французов нет и быть не может. Кроме того, всем во Франции понятно, что даже сегодня нельзя поставить закон и судебную практику на одну доску. Как бы ни старался судья в выработке «прецедента», любая судебная практика всегда здесь находится под «дамокловым мечом законодателя» <50>. Росчерк пера последнего — и все судейские усилия летят прахом, что уже неоднократно случалось. В Англии такого быть не может из-за институциональной автономии common law как особой правовой системы, существующей независимо от законодательства, не говоря уже о США, где любой суд просто-напросто вправе преодолеть закон за счет доктрины «конституционного контроля», т. е. признав закон неконституционным. Во Франции такого права у суда нет. Здесь действует принцип «закона-экрана», заслоняющего Конституцию от судьи. В силу данного принципа, отрицающего прямое действие Конституции в гражданском, уголовном или административном процессе, функции конституционного контроля выполняет отнюдь не любой суд, а лишь специальный Конституционный совет, обладающий исключительной монополией на признание какого-либо закона неконституционным, причем только в рамках специальной процедуры — автономного конституционного судопроизводства. Иными словами, перед законом французский гражданский, уголовный или административный судья абсолютно бессилен. ——————————— <50> Cabrillac R. Op. cit. P. 141.
Но вернемся к вопросу, поставленному в наименовании данного раздела. Существует ли судебный прецедент в континентальном праве, по крайней мере в праве французском как одном из наиболее ярких и влиятельных его представителей? Существует ли он здесь как объективное явление, т. е. безотносительно к субъективному восприятию прецедентного права французскими юристами? Если абстрагироваться от всех нюансов, то положительный ответ для нас очевиден, хотя французское право продолжает оставаться «законоцентричным» и никакого равенства между «статутами» и «прецедентами» здесь нет и в помине. Строго говоря, «явление прецедента» наблюдалось в континентальной Европе всегда — «запрет прецедента» есть лишь локальная интеллектуальная попытка, длившаяся примерно сто лет или чуть более (вторая половина XVIII — XIX вв.), пусть и со свойственным той эпохе радикализмом. Ф. Жени, Р. Салей и их коллеги данный радикализм преодолели, и все вернулось на круги своя… Но наличие судебного прецедента опять-таки не означает его нормативности. В континентальной Европе он имеет не менее доктринальный характер, чем в Англии или в США. Разница лишь в том, что для английских или американских судей прецедент являлся и часто до сих пор является основным способом легитимации их решений, о чем мы уже писали. В континентальной Европе у судей необходимости в этом нет. Они легко обосновывают свои решения путем отсылки к ГК, УК и прочим законам <51>. Именно поэтому те же французские судьи как не ссылались, так и не ссылаются ни на предыдущие судебные решения, ни на авторитетные мнения других судей, ни на доктринальные взгляды известных ученых даже тогда, когда откровенно черпают в них свое вдохновение. Они просто «переносят» готовые подходы и конструкции в «резолютивные» и «мотивировочные» части собственных решений, но в самих этих решениях без малейшей ссылки на «первоисточник» всегда упоминаются исключительно какие-то статьи, параграфы или абзацы законов, вокруг которых и строится вся формальная аргументация. Превращаться в «ученых-юристов», уподобляя свои решения научно-правовым трактатам, континентальным судьям не надо, поскольку основным способом легитимации для них служит легендарный принцип законности, которого вполне достаточно. ——————————— <51> Некоторое исключение составляют французские административные судьи, которым часто просто-напросто не на что ссылаться ввиду отсутствия административного кодекса в материально-правовом понимании.
Поэтому континентальные «судебные прецеденты» создаются не самими судьями (как в тех же Англии или США), подбирающими нужный вариант решения и сводящими его к короткой максиме, а университетской доктриной, т. е. здесь прецедент доктринален не только по сути, но и по форме. Лозунг Ф. Жени и Р. Салея был брошен не судьям, а профессорам права, и они его с готовностью подхватили, доведя мастерство «делания прецедента» до совершенства. Откуда мы знаем о тех или иных французских «прецедентных решениях»? Откуда узнают о них сами судьи, адвокаты и т. д.? Отнюдь не путем бесконечного просмотра сотен тысяч судебных решений, поскольку искать там прецедент ничуть не проще поиска «иголки в стоге сена». Кто в конце концов на самом деле объявляет, что то или иное судебное решение «принципиально», если в самом решении, как мы убедились выше, об этом не сказано ни слова? Теоретики и практики, включая, разумеется, самих судей, просто пролистывают солидные юридические журналы с их непременной рубрикой «Хроника судебной практики». В эту хронику попадают только заслуживающие внимания «принципиальные» решения. Кто их отбирает? Кто объявляет во всеуслышание об их «принципиальности»? Конкретный профессор права, являющийся «ответственным» за отраслевую (гражданско-правовую, уголовно-правовую и т. д.) хронику, что, кстати, необыкновенно престижно и является пиком научной карьеры. Но приходится ли нам изучать в рамках этой хроники полную версию каждого из таких судебных решений, подчас весьма объемную и при всей своей гипотетической «принципиальности» всегда наполненную массой ненужной информации, интересующей разве что стороны процесса? Разумеется, нет. Решение уже обработано, и его основной частью является знаменитое «примечание» (note) — авторский доктринальный текст, где в очень лаконичной и искусной форме обозначена правовая проблема и показано ее решение судом. Кто пишет note? Конечно, профессор права <52>, поскольку это сложнейший по исполнению доктринальный труд, который не может быть доверен ни аспиранту, ни ассистенту, ни техническому клерку суда. Быть автором note опять-таки очень престижно, и именно посредством note французские судебные прецеденты доходят до практикующих юристов, попадают в учебники, озвучиваются в студенческих аудиториях. ——————————— <52> Четкое разделение труда между профессорским и судейским корпусами — это давняя французская традиция, в силу которой сами судьи note не пишут (у них другая работа). Исключение иногда составляют члены Государственного Совета, в значительно большей мере демонстрирующие вовлеченность в сугубо доктринальную деятельность. Но у них не было в свое время другого выхода. Именно поэтому, если и искать в континентальной Европе что-то похожее на common law, то им станет французское административное право. Здесь судьи вынуждены больше думать о теории (см. об этом: Jestaz Ph., Jamin C. Op. cit. P. 109 — 114).
В этом смысле характерно наименование уже цитировавшейся выше статьи профессора Д. Руссо «Существует ли неоткомментированное судебное решение? Или комментировать есть занятие бессмысленное?» <53>. Вопрос, разумеется, риторический: непрокомментированные решения не могут в сегодняшней Франции выйти за пределы конкретного дела, получить мало-мальскую известность и стать «путеводной звездой» последующей практики. Они не имеют на это ни малейших шансов по сугубо техническим причинам, так как даже самая гениальная юридическая конструкция, скрытая в их «недрах», остается чем-то вроде «неоткрытого месторождения». ——————————— <53> Rousseau D. Une decision non commentee existe-t-elle? Ou commenter est-ce delirer? // L’architecture du droit. Melanges en l’honneur de Michel Troper.
Следовательно, доктринальный «комментарий» — это не «бессмысленное занятие», а хрестоматийный континентальный способ формализации «сложившейся судебной практики», т. е., иначе говоря, пресловутых «судебных прецедентов». Романо-германское право создавало «юридическую науку» отнюдь не праздности ради, а исключительно из практических соображений, доверяя ей в разные периоды важнейшие миссии: когда-то такой миссией было формирование jus commune, сегодня — отслеживание и приведение в надлежащую форму судебной практики. В Англии ввиду отсутствия «юридической науки» всем этим пришлось заниматься самим судьям, ставшим английским вариантом «ученого-юриста». Впрочем, не будем вновь возвращаться к уже сказанному…
* * *
Теперь, быть может, о самом главном. Имеют ли сложнейшие интеллектуальные процессы по рационализации судебной практики, происходившие и продолжающие происходить в Англии, США или Франции, какое-либо отношение к вновь вспыхнувшим в России спорам о прецеденте и призывам немедленно (причем едва ли не традиционным «указным» порядком) превратить российскую правовую систему в систему case law? Откровенно говоря, ни малейшего. Судебный прецедент есть творческий поиск в чужом судебном решении теоретической квинтэссенции — ratio decidendi, т. е. той правовой конструкции, которую никто не «предлагает на блюдечке». Иногда подобным поиском занимаются сами судьи, иногда — профессора права. Важно другое: судейское мнение является в такой ситуации объектом анализа, а не субъектом «послушания» вышестоящему начальству. Иначе говоря, мы столь трепетно относимся к позиции судьи, что готовы тратить время и силы на то, чтобы эту позицию понять и воспроизвести в собственном судебном решении, если, конечно, она подойдет нам ad hoc. Но нам и в голову не приходит давать судье какие-либо «руководящие указания», т. е. обязывать его следовать нашей точке зрения, поскольку противное означает неуважение к судье и восприятие его в качестве рядового клерка. Поэтому не надо путать «судебный прецедент» и элементарную политическую борьбу за обладание нормативными полномочиями, т. е. борьбу за дополнительный источник власти. За «теоретическими изысканиями» многих российских апологетов прецедента скрывается желание получить право издавать циркуляры и ничего более. Собственно, такие циркуляры и так уже существуют в достаточном количестве (постановления пленумов, информационные письма и др.), но какое отношение к ним имеет прецедентное право? Требуется или не требуется навязывать отечественным судьям «правильную» точку зрения? Нам это неведомо. Но для ответа на данный вопрос следует читать «Легенду о великом инквизиторе» Федора Михайловича Достоевского. Труды по теории прецедентного права в решении столь непростой нравственной дилеммы не помогут. Они совершенно о другом…
——————————————————————